
Европейские лидеры договорились о едином и решительном ответе на растущие антисемитские угрозы

Заявление Еврейской общины (литваков) Литвы по поводу недавнего доклада Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы о Казисе Шкирпе






Шуламит Шалит, февраль 2005 г.
https://berkovich-zametki.com
Моше Кульбак, 1896-1937… На земле Израиля его настоящее имя не коробит слуха, а кому непривычно, называйте по-русски – Моисеем. Моисей Соломонович. Учитель, поэт, прозаик, драматург, философ. Не знаю, будут ли когда-нибудь переведены на русский его философские вещи, его пьесы, пока что мы можем говорить о его поэзии, прочесть повесть “Зелменяне”, которая, впрочем, давно стала библиографической редкостью, поближе познакомиться с личностью поэта.

Моше Кульбак
Моше Кульбак очень любил музыку, все для него в этом мире было пропитано музыкой. Впрочем, какой же поэт не любит природы и музыки? И все-таки Кульбак как-то особенно тесно сливается и с природой, и с музыкой и от нас требует:
Так слушай же: тут каждый прут – свирель,
И скрипка – каждый камень возле шляха;
Звенит лемех в полях, где вешний хмель,
Блестит на грядке заступ, словно бляха;
В кустах простую песенку свою
Поет простая птаха…
(“Буня и Бера на шляху”. Пер. Р. Морана)
Другое время года, другие звуки, цвета, ритмы…
Дрожат снеговые равнины, и пальцы луны
Ощупывают лихорадочно поле.
Всклокоченный лес из холодной торчит глубины.
Одинокие перышки вьются слетая, слетая…
Далеко – далеко, где снежная заметь сухая…
(“Волчьи песни”. Пер. Р. Морана)
Песня “Штерндл” (“Звездочка”) – первое, опубликованное в 1916 году в Вильно (Вильнюс), стихотворение Кульбака. Сам он жил тогда в Ковно (Каунас). Для многих стихов у него были свои мелодии, но никто ведь за ним не записывал, а вот эта распространилась на ту мелодию, которая звучала в нем, когда рождалось стихотворение. Кому-то он ее напел, и она отделилась и отдалилась от него. Когда же в 20-м году он окажется в Вильно, то с удивлением услышит, что его песня и там у всех на устах. А ведь пишут, и до сих пор, что музыка “народная”.
«Штерндл» – стихотворение-пророчество. Поэт обращается к Звездочке: “будь мне посланницей, упади в мое местечко; там, одна-одинешенька сидит у темного окна, в грусти и заботах моя жена; подбодри ее, посвети в ее окошко; спроси, что делают дети; скажи, что я плачу и целую их письмецо, скажи, чтоб не жалели Янкеле, надо отдавать его в хедер, пусть учится, хватит его баловать…” И такая странная концовка для 20-летнего поэта, открытого радости (совсем недавно он сказал: “Я пою, и смеюсь, и хмелею…/ Вся вселенная стала моею“): “пусть его Янкеле как следует выучит каддиш, может, скоро ему придется… кто знает… но, может, Всевышний сжалится…”
В одном более позднем стихотворении он снова обратится мыслью к ребенку, уже конкретно к своему сыну:
А ночь-то какая! Играет небесная синяя скрипка
И снежная виолончель…
За тысячи верст мой ребенок во сне меня видит
И тихо смеется…
(“Морозом звезда отшлифована…” Пер. Ю. Телесина)
Сын, Эля, хорошо помнил отца, ему в 1937 году, когда не стало папы, а вслед за ним и мамы, было уже десять, почти одиннадцать. Ему они оба могли сниться – и веселыми, и грустными, живыми. Но и мальчику оставалось жить совсем немного. Фашисты убьют Элю в 1942 году, вместе с дедушкой, бабушкой, тетей Тоней, сестрой его отца, и ее дочкой Матусей… “Штерндл”, первое опубликованное стихотворение М.Кульбака, звучит как каддиш по всем вместе. И по себе самому. Как не подумать: поэты так часто предвидят свою судьбу…
Рая отца не помнит, но всю жизнь собирает крупицы чужой памяти о нем. Помнит и бабушку, и дедушку – ей в 1941 году, к началу войны, было почти семь лет, и брата Элю помнит, и тетю Тоню, которая забрала их, детей брата, из детдома. Старшую дочку Рая назвала Машей – по папе Моше, а вторую дочь Тоней – по любимой тете. У Маши растет сын Элиор, а у Тони двое “сабрят” – Михаэль и Итай. Они – правнуки поэта.
Он не дожил, не узнал – ни внуков, ни правнуков.
Но поэзия его жива. Его лирикой можно и сегодня объясняться в любви. Влюбленный поэт трепетно касается плеча любимой:
Как будто чашечки японской слышу звон,
И, оглушен, вдыхаю тонкий свет.
К запястью белому склоняюсь в тишине,
И кровь звенит и ускоряет бег…
Вот так остаться бы склоненным весь свой век
Пред светом, что так ново светит мне.
(“Плеча коснулся…” Пер. Р. Морана)
В других стихах, по народным мотивам, ритмичных, озорных, все кружится, пляшет, смеется…
Известкой побелили дом,
И вымыт пол дощатый.
На свадьбу музыкантов ждем,
Сейчас приедут сваты.
…В просторный дом несут с утра
Все, что пекли, варили,
И скрыни, полные добра,
И полные бутыли.
Ходуном, ходуном
Ходит пол дощатый,
А на нем, а кругом
Пляшут сваты.
С Берлом – тетка жениха!
Свояки отныне!
Бася тоже не плоха
В кринолине.
Ходуном, ходуном
Ходит мир вверх дном.
Ой, невеста с женихом!
Бим – бум – бом!
(“Свадьба”. Пер. С.Липкина)
Ошибиться нельзя: даже в переводе на русский слышишь звуки веселой еврейской свадьбы: Бим – бум – бом! Перевод отличный, а на идиш еще веселее…
Моше Кульбак родился в Белоруссии, в Сморгони, 20 марта 1896 года, что по еврейскому календарю приходится на исход праздника Песах. Отец его был младшим среди семнадцати (!) братьев. И дед, и бабушка, и все дядья – смолокуры, плотовщики, кожевники. Каких только профессий там не было! И все эти крепкие мужики волею поэта и писателя, хотя судьбы каждого сложились по-разному, как будто дожили до наших дней, и только потому, что как живые, сходят со страниц его книг.
Он учился в нескольких иешивах, в том числе и в Воложине, где до него учился поэт Бялик. Жил в Минске, Ковно, Вильно, Берлине. В Германии, далеко от родных мест, защемило вдруг, забередило, и он написал много теплых страниц о доме, о родне… Наверное, улыбка бродила по его задумчивому лицу, когда он вспоминал бабушку…
Любила бабушка моя молиться и поститься,
Еще рожать детей была большая мастерица.
Как яйца курица кладет – достойно и спокойно,
Так бабушка совсем легко несла за двойней двойню,
Двоих произвела на свет в потемках сеновала,
Потом двоих дядьев она в ольшанике рожала,
Двенадцать – на печи, одни дядья, скажи на милость!
И на гумне моим отцом однажды разрешилась.
Тогда лишь материнское ее закрылось чрево,
Пеленки принялась дарить направо и налево.
Свершила наша бабушка, что суждено ей было,
Наседкою среди цыплят по дому все ходила…
(“Беларусь”. Пер. Ю.Телесина)
На фотографии семьи Моше Кульбака в центре – мать, такая же дородная, домовитая, как и его бабушка – седая царица дома, несуетливая, а отец – книжник, с бородкой и смеющимися глазами – и умными, и грустными, и лукавыми – все сразу, а вокруг них дети. Вместе с Моше их было шестеро братьев и две сестры.

Семья Кульбак
У тех Кульбаков, кто в Америку подался, потомства больше, судьба полегче. Как-то в Минске довелось Рае видеть книгу по теории вероятности на английском Филиппа Кульбака. Американский математик оказался сыном одного из братьев отца.
В пьесе М. Кульбака “Разбойник Бойтре” главный герой любит девушку по имени Стера (от Эстер – Эсфирь). Она отвечает ему взаимностью, но отец Стеры выдает ее замуж за нелюбимого и, вопреки ее воле, устраивает пышную свадьбу. Бойтре, еврейский Робин Гуд, похищает любимую с этой свадьбы, и друзья Бойтре устраивают в честь молодых прямо в лесу новую свадьбу – веселый пир с музыкантами (клейзмерами). Моше Кульбак, разумеется, мог позаимствовать тему похищения невесты из литературных источников. Но мог и не ходить далеко, а использовать страничку из своей биографии. Об этом малоизвестном эпизоде рассказала Т.Е. Гордон-Козловская.
Художница Тамара Гордон, ученица М. Кульбака, родилась в Вильно в 1911 году. Здесь она окончила знаменитую гимназию Софьи Марковны Гуревич, работала учительницей рисования. Мама Тамары – Фрума (Феня) Иосифовна дружила с Женей Кульбак-Эткиной. Была у них еще одна подруга – Мэри Иосифовна Хаимсон, дочь раввина, педагог и детский писатель. У нее в доме Тамара встретилась с Женей. Так что знала обеих сначала врозь и только потом вместе. Тамара пишет, что Женя была очень привлекательной: выразительные глаза, стройная фигура, длинные, очень красивые косы. Славилась и гостеприимством. Все у нее дома чувствовали себя хорошо. Когда М. Кульбак уехал в Германию, он какое-то время перестал писать письма. В том числе и Жене. В это время Женя познакомилась и подружилась с биологом Спектором (его имени Т.Г. не помнит), у них начался роман. Спектор был очень приятный человек, талантливый биолог, его все уважали. Спектор сделал Жене предложение, она согласилась. Был назначен день свадьбы. И тут появляется Кульбак. Вернувшись из Берлина и услыхав новость о свадьбе, он тут же отправился к “чужой” невесте. Пришел и заявил: “Ты – моя невеста. Меня Спектор не интересует. Мы идем к раввину. Ты будешь моей женой”. Пошли к раввину, и тот их благословил. И сыграли свадьбу. Кстати, после замужества Женя, к огорчению мужа, решительно обрезала прекрасные косы.
А что же Спектор? Как это случается не только в кино, но и в жизни, довелось Тамаре познакомиться и с ним. И очень скоро после невеселой истории его жениховства. На летние каникулы Тамара отправилась в живописное лесистое местечко между Вильно и Ольшанами (названия местечка Тамара не помнит). Там и тогда она и познакомилась со Спектором. Близкие друзья старались отвлечь его от грустных мыслей и пригласили уехать из города, чтобы поскорее прийти в себя. Так они оказались в одном месте. Тамара помнит, что это был очень симпатичный молодой человек со светлокаштановыми волосами. С ним интересно было беседовать, вместе ходили в лес, собирали малину. Но лето кончилось, и они расстались. Рая Кульбак помнит, что мама рассказывала про одного молодого человека, который любил ее и очень горевал, когда она вышла замуж за Кульбака. Вскоре он будто бы покинул Вильно и уехал за границу.
Моше Кульбака Тамара тоже помнит всю ее долгую жизнь. Он был необыкновенно обаятельный человек, говорит она, высокий, стройный, походка у него была как у моряка, немного враскачку. И педагогом она его называет незаурядным.
Связанный со своим домом и со своим народом и физически, и духовно, с его традициями и культурой, открыт был Моше Кульбак всем ветрам – всем литературам и культурам. Как и Бялик когда-то, еще в Воложинской ешиве, он пристрастился к чтению “подпольной” русской классики, но отлично знал ТАНАХ, Талмуд, притчи, сказания о жизни еврейских мудрецов и пророков, еврейскую философию и мистику, а потом увлекся западной литературой и театром. Читал Аристотеля, древнекитайского философа Лао Цзи, был влюблен в Генриха Гейне, Эмиля Верхарна.
Когда он вернулся из Берлина в Вильно и стал преподавать литературу на иврите и идише, а также ставить спектакли – все ему было по плечу: “Илиада” Гомера, “Юлий Цезарь” Шекспира, “Золотая цепь” Ицхака-Лейбуша Переца.
Кто-то назвал его романтиком, прочно стоявшим на земле. Ему доступны были все литературные жанры, и во всех он себя проявил щедро и оригинально. Он любил игру слова, мысли, любил мир, но стихия этого мира, тяжелая социальная среда, жесткая реальность, мерзость разрушений, нищета, буря злобы – “жесть кричит на кровлях зелено и ало” – эта стихия враждебна человеку, еще враждебнее поэту: “Гей, трудно высоко нести мне голову чубатую!”
Вот эту голову чубатую и глаза черные и горящие вспоминают, в первую очередь, все его ученики. Если обобщить их воспоминания, придется сказать, что не было ни одной девушки и ни одного юноши, кто бы не нарушил второй заповеди: не сотвори себе кумира!
Мне кажется, я слышу голос Либби Окунь-Коэн, библиотекаря из Вирджинии:
“Его темные курчавые волосы поэтично обрамляли лицо, а мягкий блеск его черных глаз обдавал нас пламенем, гипнотизировал… Мы страстно ждали его уроков по литературе, поэзии и неважно, кого мы изучали: у всех поэтов было лицо нашего учителя. Даже старый Гомер казался нам стройным и гибким…
Наш учитель входил в класс в темно-синем костюме поверх свитера или в белой сорочке с открытым байроновским воротом… Он подходил к доске, он шел к окну, он проходил между партами, и наши глаза следовали за ним. Он говорил мягко, читая Байрона и Китса, Словацкого и Пушкина, а также наших –Эйнгорна и Маркиша, но не свое, хотя стихи его и поэмы были опубликованы, и мы знали их наизусть. Его же стихи мы читали вслух, с упоением, но тогда, когда его не было рядом…
Да, у него жена и ребенок (старший, Эля), но мы прощали ему это тоже… Они не относились к миру поэзии и к мечтам, которыми он делился только с нами…”
Она вспоминает, что в классе стоял скелет – для уроков анатомии. “Что такое человек? – размышлял Кульбак вслух, обращаясь к скелету. – Горстка ломких костей. И все же он мечтает, поет, созидает… Да, человек смертен. Но есть звуки музыки и есть удивление перед знанием, и вечные вопросы: кто ты и что ты?..“
В такую минуту им казалось, что они не менее загадочны, чем этот скелет и чем сам их учитель. Это были взлеты такого воображения!.. Парение духа! Неужели этот праздник кончится, этот полет прервется?
Однажды это случилось. Она прибежала в школу до дождя, на небе стояли тяжелые тучи. Двери всех классов были открыты, пусты. А в учительской… Он сидел за столом, с газетой в руках, и… ОН! ОН! ОН! грыз яблоко.
Девочка застыла, она не знала, какой звук был громче – сочный хруст яблока на его зубах или биение ее сердца. “Я выбежала на улицу, не останавливаясь, я добежала до парка, где рос мой старый любимый дуб, забралась по стволу и спряталась среди его ветвей – только тогда я расплакалась. Слезы текли свободно, они капали на книжку поэм моего учителя. Я сидела так очень долго, не в силах встретиться снова с жизнью“.
И если сначала эти воспоминания о Моше Кульбаке показались мне текстом эксцентричной американки, не лишенной, впрочем, чувства юмора, то вскоре я смогла убедиться, что и другие, более сдержанные, говорят о своем учителе с не меньшим жаром.
Вениамин Пумпянский, выпускник Виленского университета и института радио в Бордо: “Этого лиризма, этого чувства слияния с природой нет ни у кого другого“. Из его же воспоминаний: «Тех, у кого были часы, остальные учащиеся нашей реальной гимназии постоянно теребили: “Калигула! Калигула!”, что на иврите означало: “Кама ле геула?” (“Сколько до избавления?”). Нам не терпелось, чтобы урок скорее кончился, а у Кульбака мы так были захвачены и темой и личностью поэта, что забывали о нашей игре в “Калигулу”»…
А поэт Авраам Суцкевер, классик еврейской литературы, в своем журнале «Ди голдене кейт» (“Золотая цепь”) в честь 50-летия создания известной литературной группы Юнг-Вильне (опубликовано в 1980 году) вспоминал, что поэт Ицик Мангер в 1929 году посетовал: “Ах, если бы Варшава так любила его (Мангера), как Вильно любит своего Моше Кульбака!” Нет, Суцкевер не находит прямого влияния творчества Кульбака на членов Юнг-Вильне, но “очень сильно было влияние его личности, совершенно ослепительной: так должен выглядеть, так должен говорить, так должен молчать истинный поэт“.
Из Вильно его провожали как классика. На прощальный вечер пришло столько народу, что пришлось вызвать конную полицию. “Вильно теряет поэта… пусто станет в Вильно. Как мы восполним этот пробел?” – писала газета “Вильнер тог”. О ком еще так говорили и писали при жизни? И он отдал дань этому городу своей знаменитой поэмой “Вильно”. “Поэтической жемчужиной” назвал ее еврейский писатель Шломо Белис: «В поэме запечатлен сам дух виленских еврейских переулков: тихая, скромная ученость города, который называли литовским Иерусалимом, его “сияющая нищета”. Кульбак писал о Вильно так, как будто высекал свои слова на каменных стенах его домов: “Ты – псалтырь из железа и глины, / Каждая стена твоя – мелодия, каждый камень – молитва” ».
И вот он покидает этот город. Последние рукопожатия, объятия. Поезд трогается. Тамарочка Гордон бежала в толпе провожающих за поездом, увозившим их учителя, их поэта, и в слезах скандировала вместе со всеми: “Кульбак, Кульбак…” Как знакомо это чувство тому, у кого хоть раз в жизни был настоящий, любимый учитель.
Уже вышли книги его стихов и поэм, уже написаны были философские романы “Машиах бен Эфраим” и “Монтиг”, и пьеса “Яков Франк”, и поэма “Буня и Бера”, когда он вернулся в Минск. Уехав отсюда в 1919 году, Кульбак вернулся в Белоруссию только в 1928, уже знаменитым и очень популярным поэтом. И не было ему знамения, что спустя неполных десять лет он станет одной из первых жертв еврейской культуры…
Как в Берлине он писал о Белоруссии, так в Минске он вспоминал Берлин и написал сатирическую поэму “Чайльд-Гарольд из местечка Дисна”. В ней открылись новые стороны его мастерства: сатирический анализ и художественный гротеск. Об атмосфере всеобщего страха перед большевиками – только намеком: “И ритма тяжких, медленных шагов / В купе лишь парень с трубкой не боится”. (Пер. Ю. Нейман) Часть души поэта еще живет в предвкушении лучшей жизни в стране Советов, стране “больших возможностей”, но другая, более земная и рациональная, уже слышит “тяжкие шаги” ее власть предержащих. В стихах о революции у Кульбака прорывается и такая мысль: “Ты без счета хватаешь тумаков, а новой жизни не видно что-то“. Видя перемены, дошедшие и до еврейского местечка, Кульбак взялся показать, каковы они и как влияют на местечко, двор и еврейскую жизнь.
Повесть “Зелменяне” (на еврейском языке “Зелменянер”) была впервые опубликована в Минске в 1931 году. К тому времени Кульбака-поэта знали и любили в Вильно, Варшаве, Берлине, Москве, Одессе и даже в далеком Бруклине. Теперь он поразил читателей, как мастер прозы. Его стали переводить на другие языки. На иврите книга издавалась три раза. На русском вышла с огромным трудом в 1960 году в переводе Рахиль Баумволь. Ее отношение к Кульбаку иначе как обожанием не назовешь: “В нем была рафинированная европейскость и еврейская народность одновременно. Его поэзия, как и его проза, – новый ракурс в еврейской литературе. Когда я переводила “Зелменян”, каждая строка пела во мне, так много в книге мудрости, юмора и доброты…. Он иронизирует над отсталостью зелменян, его сатира остра, как бритва, но почему от нее так пахнет добротой и лукавством? Он засмеется, а тебе плакать хочется, он кольнет, а кажется, что погладил“.
Тираж разошелся, не разошелся даже, а разлетелся мгновенно.
Реб Зелмеле Хвост, глава рода Зелменовых, был простой человек. А зачем простому человеку хвост, даже если это его фамилия? Покажите мне хоть одного еврея в ТАНАХе, нашей главной книге – еврейской Библии, с фамилией? Саул, Самуил, Давид, Соломон – цари наши, но и их только по именам называли. Фамилии нам потом навязали… Но зато в наших местах к имени добавляли почтительное реб – это не ребе, не раввин, то есть, не должность и не звание, а знак уважения. И к реб Зелмеле уважение не убывало, даже когда он выходил во двор в одних кальсонах. Лето ведь, жара. И потом это был свой двор, где копошится уже четвертое поколение Зелмеле. Зелмеле это, наверное, уменьшительное от Залмана? Почему же они произносят “Зелмен”, “Зелмеле”? Впрочем, их имя, их и дело, а наше – знать только, что он положил начало реб-зелменовскому двору. Он и бабушка Бася. О фамилии Хвост вспоминали (хотя в натуре он и отпал) только, если надо подписать что-нибудь официальное. Завещание, к примеру: “Я намерен сам, пока я жив, поделить между моими детьми все, что останется после моей смерти“. Так начинается наше знакомство с главными действующими лицами – сыновьями, дочерьми главы большого семейства, их мужьями, женами и многочисленными отпрысками.
Это искрящийся остроумием, теплым и нежным юмором рассказ о людях, привычных к определенному, веками устоявшемуся укладу жизни. И вдруг все пошло вкривь и вкось: и все от этих большевиков, с их электричеством, трамваем, радио. Немудрено, что дядя Юда стал немножко философом, а его сын Цалел каждый вторник и четверг лезет в петлю. Вот рассуждения дяди Юды: “Иногда смотрю на электричество, как оно горит, и думаю: допустим, нет бога на свете – есть электричество… вот эта лампочка – это и есть бог? Вот эта лампочка наказывает грешников и вознаграждает праведников? Это она дала Моисею Тору на горе Синайской, вот эта самая лампочка?.. И что, если я, например, вдруг поломаю лампочку, так уже не станет бога на свете?.. Товарищ Ленин большой человек, конечно, он большой человек, но какое он имеет касательство к вопросам божественным? Предположим даже, что он самый великий человек. Ну и что?.. А Моисей – уже ничего? А царь Давид?.. А Виленский гаон?“
Дяде Юде, Цалелу некуда деться, а те, что помоложе, подались в бега – и куда же их понесло? – в далекий Владивосток. И за какими такими радостями они поехали? Один – “за татуировкой с русскими поговорками“, другая – “за приплодом с вообще нееврейским выражением лица“.
Дядя Юда – один из главных героев книги. И один из самых странных. Впрочем, все герои тут странные и сама книга странная, местами даже сюрреалистическая. Не потому ли интересно и вкусно ее читать и сегодня? Вот как дядя Юда отговаривает сына Цалела от его попыток самоубийства: “Я понимаю, иногда можно лишить себя жизни. Почему бы нет? Ну, раз, ну, другой, но у тебя же это без конца… И видишь, тебе все-таки, слава богу, умереть не суждено. Спрашивается, Цалел: почему тебе поступать наперекор богу и людям?.. Что ты все сидишь за своими книжками? Ты же тоже можешь стать большевиком… Вечно человек не живет, и хочется иметь кого-нибудь, кто бы сказал после твоей смерти каддиш, как у всех людей“.
Это не смех сквозь слезы, это, пожалуй, слезы сквозь смех.
И в прозе слышен голос М. Кульбака-поэта. Дядя Юда не плачет, но “несколько капель лунного света обрызгало одно стеклышко его очков и кусочек впалой щеки“. Он отвлекает Цалела игрой на скрипке: “он играл так, как будто собирался вытянуть из него душу не с помощью веревки, а сладостным древним плачем… Меланхолия дяди Юды расцвела, как липкая водоросль в болоте. Его напевы дрожали и задыхались. Они моргали, как ослепшие глаза, которые порываются увидеть свет“.
Вчитавшись в книгу, привыкнув к особому строю речи, своеобразному, причудливому делению текста на главы и подглавки, состоящие иногда из пяти строк, иногда из одной строки, ловишь себя на мысли, что не хочется, как в далеком детстве, чтобы книга кончалась, жалеешь, что жестокие реалии разрушили такой колоритный двор, весь уклад жизни рода Зелменовых. Зная уже биографию автора, прощаешься не только с героями книги, но и с ним – талантливым, умным собеседником и рассказчиком – Моше Кульбаком. Больше он ничего уже нам никогда не расскажет. И тогда по особому прозвучит вздох Самуила Галкина: “Ах, Кульбак, Кульбак… Сколько не состоялось между нами душевных бесед!”
Но Кульбак не любил сантиментов. А тоску человека слышал: “…бабушку Басю электричество поразило как удар грома. Она сидела, по-зимнему закутанная и завязанная, смотрела широко раскрытыми глазами на лампочку и, увидев живого человека, сказала:
– Здесь мне уже нечего делать, уж лучше отправиться мне к твоему отцу…
Дядя Иче при этом так растерялся, что стал ее отговаривать:
– Куда ты пойдешь в такую темень?
Надо признаться, что с тех пор бабушка Бася совсем уже не жилец на этом свете и, кто знает, может быть правы те, кто утверждает, что она немного опоздала со смертью“.
А трамвай! “Яркие вагоны, сияющие стекла, никель, новые ремни. Проемы трамвайных окон были набиты людьми, и все это скользило вниз с горы, летело в гору, мчалось и добегало до предместья.“
Когда в домах у Зелменовых появилось радио и полились звуки виолончели, беременная Хаеле сошла спросить, “можно ли ей слушать радио, не повредит ли это ее ребенку”? На что радиотехник-самоучка Фалк рассердился и стал объяснять, что, по законам физики, “музыка не дойдет до живота“, но тетя Гита решила, что на всякий случай “радио может подождать. Его можно послушать и после родов“.
“Зелмениада” по Кульбаку – это “научное исследование о технической культуре, знаниях, свойствах, а также о манерах и привычках реб-зелменовского двора“. Мы узнаем, что самое важное орудие реб-зелменовского двора – это терка, ибо без оной нельзя испечь картофельной запеканки, а лучшие средства от всех болезней – это горячие припарки и варенье. Варенье кушают лежа, опершись на руку, маленькой ложечкой, которую держат, отведя в сторону мизинец. Варенье хорошо после обморока, после родов, от боли в сердце, от испуга.
А вот “Зелменовская география”: “в реб-зелменовском дворе известны в основном всего лишь три народа: русские, поляки и крестьяне.
В голове вертятся названия и других народов, но тут уже полнейшая путаница. Очень трудно, например, сказать, какая разница между графами и французами…
Знают в реб-зелменовском дворе и о цыганах. Но считают, что это скорее профессия, нежели народ“.
В разделе “Зелменовская зоология” нам сообщают: “Из живых тварей реб-зелменовскому двору известны тринадцать: лошадь, корова, коза, овца, кошка, собака, мышь, курица, гусь, утка, индюк, голубь, ворона.
О свинье ничего не знают – принципиально…“
Город строится. Новые времена, новые нравы.
Кульбак писал книгу на злобу дня. Требовалось показать, какое счастье принесла в каждый дом, и еврейский тоже, советская власть. Разве он был против? И ученики его угадывали правильно, он, безусловно, был захвачен собственным образом “бронзовых парней”, созидателей новой эры, положительной и для еврейского народа. И чем плохо, если антенны поднимутся над каждым домом, и звуки всего мира, и речь, и музыка, обогатят и обновят души?
Прозу Кульбака отличает свежесть содержания и формы. “В нем сочетались романтическая возвышенность и прочное слияние с земным, – говорил поэт Иосиф Керлер. – Он верил, что поделать, в справедливый мир. И никто еще до него не писал на еврейской улице так живо и звонко о весне, о цветении и юности“.
Нет уже на свете ни И. Керлера, ни Р. Баумволь, а совсем недавно они делились с нами своей любовью к поэту, своей памятью.
“Кульбака хочется цитировать всего, и ты просто режешь себе пальцы, чтобы предпочесть одни цитаты другим, и всегда остается чувство, будто ты отнял у читателя большое удовольствие. Хорошо быть бедняком – у него только одна рубашка, есть что отнять. А если талант так велик, что и в большом мешке не умещается?…” – пишет Шломо Белис, читающий, заметьте, на идиш и чувствующий этот язык. Но и нам, читающим его на русском да белорусском, кое-что перепадает…
Всего-то и было творческой жизни Моше Кульбака – от первого стихотворения до реплики героя последней пьесы – двадцать лет. Но трудно даже схематически охватить все своеобразие и многообразие этого талантливого человека. Он впитывал свет солнца, игру звезд, дыхание листвы, переливал свои чувства в слова и посылал их людям. Он все еще не прочитан и недооценен.
Переводить его будут с любовью Семен Липкин, Юлия Нейман, Рахель Баумволь, Юлиус Телесин, Рувим Моран… Поэт и об этом не узнает… Он не узнает многого – ни хорошего, ни плохого: он уйдет из жизни в 41 год. Он не узнал, что 5 ноября 1937 года, вскоре после того как его осудили, арестовали и его жену Женю (по документам Зелду), а детей, и старшего 11-летнего Элю, и младшую 3-летнюю Раю, разбросали по детдомам.
И она, его Женя, хоть и прожила еще целую жизнь, до 1973 года, так и не узнала, ни как, ни когда и ни где он погиб. После восьми лет ссылки и еще года на поселении, она вернулась в Белоруссию и, преодолевая страх, стала добиваться истины, каких-нибудь документов, добралась даже до Москвы и там ей цинично бросили: “Июль 40-го вас устраивает?” Что она ответила? Потеряла голос. Не могла сказать ни слова. Молча кивнула. Ее устраивала хоть какая-то определенность. И так во все книги и энциклопедии вошла эта дата смерти – 1940 год, иногда, правда, в скобках ставили вопросительный знак.
Должно было пройти более полувека, пока его маленькая Рая, а когда выросла – Раиса Моисеевна Кульбак-Шавель, получила эту страшную бумагу:
” …сообщаю: приговор приведен в исполнение 29 октября 1937 года… Ранее сообщенные сведения вымышленные. О месте захоронения сведений не имеем“.
Но жители села Куропаты, что под Минском, говорили, что мальчишками, в 30-е годы, слышали тут выстрелы, а некоторые в щели заборов видели, будто людей ставили в затылок друг к другу и одной пулей двоих… Вот и стали ездить в эти Куропаты Рая и ее муж Макс, и он не знает, где расстреляли Авраама Шавеля, его отца.
В книге О. Аврамченко и П. Акулова “Тайны кремлевского двора. Хроника кровавых событий” (Минск, 1993) есть рассказ о поэте Изи Харике. Связанного, он сошел с ума, его волочили “по коридору, переходам, ступеням на тюремный двор”, а потом забросили в пасть “черного ворона[7]“. Среди тех, кто его “не сразу, но узнавали“, назван Моисей-Моше Кульбак. Для Раи это еще одна ниточка. Она выписала несколько фраз: “Черный ворон” рванул с места и, набрав скорость, выбрался на Логойское шоссе. Скоро свернул налево. В то место, которое весенней порой сплошь желтыми цветами усыпано: ученые люди их прозывают лютиком едким, курослепом, слепотой куриной. А здешний народ те цветики издавна кличет куропатами“. Не зря, получается, душа тянула в те Куропаты?
Моше Кульбак, родившийся в этих местах, так пронзительно любил их. Вот утро:
Травы пахнут, сияют и плачут от счастья и воли.
Тают клочья тумана – сны трав и дерев – над лугами…
А вот наступает вечер, да нет, пожалуй, это уже ночь:
Слышно было, как движутся звезды, чтоб ярче гореть,
Словно теплый напев, к ним дымок поднимается зыбкий.
Или там, наверху, небеса – как дрожащая сеть,
И, как звезды, искрятся, шевелятся светлые рыбки?
…Вдруг зеленая звездочка вздрогнула, как светлячок,
В синеве свой полет обозначила, быстрый, блестящий, –
Будто искра внезапно покинула синий зрачок,
И упала, пылая, звезда в многолиственной чаще.
(“Беларусь”. Пер. С. Липкина)
“Мы воем на развалинах системы” – писал когда-то Кульбак про совсем другие времена. Но и мы “воем на развалинах системы”, узнавая все новые и новые подробности о том, как убивали цвет нашей еврейской культуры.
Его убивали на лоне природы. Никто не расскажет ни о последних днях, ни о часах, ни о последних минутах его жизни. Белорусская природа, ее луга и леса, была безучастна и, наверное, хороша, как всегда, особенно осенью. Если бы эти деревья и травы заговорили… Ни записать, ни прочесть кому-нибудь новых стихов, только про себя, самому себе. Вполне вероятно, что писал до самого конца, чтобы не думать, не страдать, отогнать наваждение: неужели этот ужас происходит с ним и через миг его не станет? Отца Рая не помнит, но всю жизнь возвращается мыслью к его последним минутам, к его образу, облику, вслушивается в его стихи, ловит каждое слово о нем тех, кто его помнил, любил. Через его стихи и рассказы о нем она восстанавливает его жизнь, страницу за страницей.
Убили его и долгие годы скрывали это. Вычеркнули имя, сожгли книги. В шестидесятые годы прошлого уже, двадцатого века, почти тридцать лет после его смерти, в Израиле спрашивали: “Что стало с Кульбаком?” Никто не знал. Исчез. Но был же он!
Сегодня в интернете множество текстов о М. Кульбаке, есть и переводы его стихов на разные языки. Но во многих биографиях до сих пор годом его смерти ошибочно считают 1940–й.

И только 28 августа 2004 года на установленной в Вильнюсе мемориальной доске (ул.Кармелиту, дом №5, где жил поэт) появилась надпись на еврейском и литовском языках, указывающая точную дату гибели поэта. Надпись гласит: В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ ИЗВЕСТНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ПОЭТ МОШЕ КУЛЬБАК (1896 – 1937).

В последний день 2020 г. скончался известный французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн. Об этом сообщает Le Figaro. Оссейну было 93 года. Сообщается, что актер заразился коронавирусной инфекцией во время одной из своих предыдущих госпитализаций, а 31 декабря скончался в больнице из-за проблем, возникших с дыханием.
Робер Оссейн (Абрахам Оссейнофф) родился в Париже в 1927 году в семье музыканта и композитора азербайджанского происхождения Андре Оссейна и пианистки еврейского происхождения Анны Минковской, родившейся в Бессарабии. Мать учила мальчика с детства говорить по-русски и на идиш.
«Помню своих близких. Помню, как мама учила меня русскому и идишу. Помню даже запах вкуснейшего украинского борща, который готовила мама. Помню уроки своего отца, который учил, что нужно иметь богатую душу и не стоит в жизни привыкать ни к чему. Он был прав», — рассказывал Оссейн в одном из интервью в ноябре 2020 года.

На счету актера — более 100 ролей в фильмах. Дебют Оссейна в кино состоялся в 1954 году в фильме «Набережная блондинок». Российскому зрителю он наиболее известен как исполнитель роли графа Жоффрея де Пейрака в киносаге об Анжелике.

Он также исполнил роль комиссара Розена в фильме «Профессионал», где его партнером был Жан-Поль Бельмондо. Оссейн сотрудничал с такими крупными режиссерами своей эпохи, как Клод Лелуш, снимался вместе с Бриджит Бардо, Софи Лорен, Софи Марсо. Последний фильм с участием Оссейна вышел во Франции в 2019 году (Le Fruit de l’espoir).
Французский зритель также высоко ценил многочисленные работы Робера Оссейна в театре, где он исполнял роли в пьесах Шекспира, Гарсиа Лорки, произведениях Горького. С 2000 по 2008 год актер был художественным руководителем театра Мариньи на Елисейских полях. Робер Оссейн написал две книги мемуаров — «Слепой часовой» и «Кочевники без племён». Один из 4-х сыновей актера – Николя, стал раввином в Страсбурге.

Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт 31 декабря заявил, что современная Европа не обеспечивает еврейским общинам гарантии того, что они смогут вести привычный для них образ жизни, пояснив, что имеет в виду, в частности, запрет шхиты в Бельгии.
«Европейские лидеры говорят нам, что они хотят, чтобы еврейские общины жили и преуспевали в Европе, но они не обеспечивают гарантии нашему образу жизни. – Европе необходимо задуматься о том, каким континентом она хочет быть. Если такие ценности, как свобода религии, являются неотъемлемой частью европейских ценностей, то нынешняя система явно не отражает этого и нуждается в пересмотре. И сейчас мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда, не спрашивая еврейскую общину, вводится запрет, последствия которого будут долгими и разрушительными», – подчеркнул Гольдшмидт.
В 2017 году два основных бельгийских региона — Фландрия и Валлония приняли законы о запрете шхиты и халяльного убоя скота под предлогом защиты прав животных от жестокого обращения. В декабре 2020 года Европейский суд, являющийся высшей судебной инстанцией Европейского союза, признал законность этих решений.

Еврейская община (литваков) Литвы поздравляет Диту Зупавичене-Шперлингене с Новым годом!
Дита Зупавичене-Шперлингене настоящая легенда: сильный характер и стойкость помогли ей пережить ад Каунасского гетто и нацистского концлагеря Штутгоф. Несмотря на свой возраст – 98 лет (!), Дита ежегодно приезжала в Литву, чтобы встретиться со своими друзьями и близкими и, если бы не пандемия, у нас была бы возможность и в 2020-ом году встретиться с Дитой.
Поздравляем Диту с Новым 2021 годом и желаем крепкого здоровья, радости и тепла!

К концу Года Виленского Гаона и истории литовских евреев столичная галерея «Vartai» подготовила два новых международных проекта. Это выставка „An Unfinished Project“ («Незаконченный проект») и инсталляция украинского художника Николая Ридного. До 21 января можно будет увидеть работы семи известных мастеров из Литвы, Германии, Израиля, Бельгии. Название экспозиции дала лента Яэль Херсонски «Незаконченный фильм», отрывки из которого сопровождают выставку – они напоминают о Холокосте и трагедии еврейского народа, в фильме звучат свидетельства бывших узников гетто. Эту же тему затрагивает и литовский художник Константинас Богданас в своем произведении «Небытие», которое воспроизводит контуры брусчатки опустевших улочек Виленского гетто.
Другой проект в честь 300-летия Виленского Гаона и года истории литваков – инсталляция Николая Ридного „Lost Baggage“ – «Потерянный багаж». Она установлена во дворике столичного Музея театра, музыки и кино.

30 декабря не стало Михаила Шпица (1955 – 2020). Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования члену Совета ЕОЛ Элле Гуриной, ее маме члену Социального Центра ЕОЛ в связи со смертью любимого сына и брата.

lechaim.ru
Марш еврейских партизан впервые спели на русском
Культура еврейского сопротивления эпохи Второй мировой огромна – от классиков до безвестных талантов, которые не успели раскрыться, но внесли свои слова и поступки в нашу память о Катастрофе и Победе. От хроникера восстания в Варшавском гетто Владислава Шленгеля, автора наполненной праведной ненавистью «Контратаки», до парашютистки Ханны Сенеш, заброшенной союзниками в нацистский тыл и передавшей перед смертью строчки своего последнего стихотворения: «Благословенно сердце, готовое стихнуть ради чести. Благословенна спичка, сгорающая в пламени».
Тремя ключевыми событиями еврейского сопротивления считают:
январь 1940 года – создание «Еврейской армии» во Франции, спасшей от смерти десятки тысяч евреев
август 1941 года – создание в захваченном нацистами Минске подпольной сети сопротивления со своей типографией и последующий исход городских подпольщиков в леса
январь 1942 года – создание ФПО, Объединенной партизанской организации, в Виленском гетто.
С Вильно связан не только один из героических эпизодов еврейской партизанской борьбы, но и расцвет культуры на идише.
В городе, который называли тогда Литовским Иерусалимом, этот расцвет был во многом связан с деятельностью «Бунда» – организации, которая пропагандировала идиш как язык культуры и борьбы еврейского рабочего класса за социализм в Восточной Европе. Бундовцы координировали сеть школ на идише, организовывал культурные мероприятия для детей и молодежи. В 1925 году в Вильнюсе был создан Научный еврейский институт, до 1940 года в городе издавалось около тридцати газет на идише.
Интеллектуальная, культурная жизнь не утихала и после захвата города нацистами и создания гетто. «Люди, которым даже ходить по тротуарам запрещено, на наших глазах возрождают и школу, и даже театр, и жаждут послушать музыку, и читают друг другу стихи, и даже пытаются заниматься спортом — жить, жить, несмотря ни на что!» – пишет Владимир Кавторин в предисловии к книге «Евреи в гетто» Григория Шура.
«Не голодом единым и не только сознанием своей обреченности существовал там человек. Жил и его дух», – рассказывает Мария Григорьевна Рольникайте, писательница, пережившая гетто. «Сломать дух оккупантам оказалось труднее, чем уничтожить физически. И может быть, в этом кроется пусть совсем маленькая, даже крохотная частица ответа на вопрос, как же люди все-таки выдержали. И не свидетельством ли этого неубитого и нераздавленного духа являются созданные тогда, в таких условиях, стихи и песни?»
ГРУППА АРКАДИЙ КОЦ/ПЕСНЯ ЕВРЕЙСКИХ ПАРТИЗАН
Самой известной из этих песен стала «Zog nit keynmol» («Никогда не говори»). Стихотворение, написанное в 1942 году молодым поэтом Гиршем Гликом и положенное на музыку, оно вскоре стало гимном Объединенной партизанской организации. Строчки Глика «были настолько созвучны чаяниям каждого заточенного среди этих стен узника, что, кажется, не осталось в гетто человека, который бы не вторил словам этой песни», – говорит М.Н. Рольникайте.
Гирш Глик (1921-1944) был выходцем из виленской бедноты, сыном старьевщика, в 17 лет он бросил учебу из-за материальных трудностей, работал в скобяной лавке, на производстве картона, на фабрике по обработке железа. Первые стихи сочинял на иврите, затем, вступив в левую литературную группу “Юная Вильна”, перешел на идиш. Как и многие из его среды, Глик в 1940 году приветствовал присоединение Литвы к СССР, его песни и стихи стали часто публиковать в еврейско-советской прессе.
После нацистского вторжения Глик попытался бежать из города и присоединиться к партизанам, однако был арестован и отправлен в трудовой лагерь Рзеза. Работая на торфозаготовках, заболел брюшным тифом и оказался на грани смерти. В это время он пишет слова партизанской песни “Штил ди нахт” (“Ночь тиха”), посвященной партизанке Витке Кемпнер, которая уничтожила немецкий военный транспорт на окраине Вильно. К 1942 году евреи из лагеря Рзезы были депортированы в Виленское гетто. Там Глик пишет «Zog nit keynmol» и примыкает к Объединенной партизанской организации (ФПО) под руководством Ицхака Виттенберга и Аббы Ковнера.
Песня очень быстро распространяется не только за пределы гетто, но и за пределы еврейской среды. Это не слишком удивительно, ведь многие бежавшие из гетто примыкали к советским партизанам, а некоторым удавалось довести своих близких до т.н. «семейных лагерей», организованных Советской властью. При этом жизнь евреев-партизан в интернациональных отрядах была по-прежнему нелегкой – часто беглецам приходилось самим добывать себе оружие, преодолевать недоверие с помощью избыточной храбрости, сталкиваться с антисемитизмом. Но песни сглаживали острые углы…
Из воспоминаний еврея из Ковенского гетто, который попал в интернациональный советский партизанский отряд “Смерть немецким оккупантам”:
«Было странно и приятно слушать весь вечер песни на идише. Некоторые из них, видимо, попали в отряд от евреев, которые десантировались из советского тыла. Но более захватывающие ощущения вызвали две еврейские песни: “Гармошка” и “Кружи меня”, которые считались в гетто гимнами подпольных сионистских молодежных организаций «Молодой страж» и «Свобода». Однажды ночью, ожидая советский самолет с вооружением и боеприпасами на временном лесном аэродроме в Рудницком лесу, этот человек впервые услышал «Zog nit keynmol» в исполнении группы евреев-партизан из Виленского гетто…
Откуда взялась музыка к стихотворению? По воспоминаниям товарища по лагерю, Глик еще во время работы на торфозаготовках часто находил сухое местечко, чтобы присесть, просил друга напеть хорошую мелодию, а сам импровизировал текст…
Удачно найденной мелодией для «Zog nit keynmol» стала песня братьев Покрасс «То не тучи, грозовые облака», написанная для документального фильма 1937 года «Сыны трудового народа», в котором шла речь о советских казаках: «Едут с песней молодые казаки / В Красной Армии республике служить». Мелодия же братьев Покрасс восходит к «Oyfn Pripetchik», песне одесского, а потом нью-йоркского поэта и композитора Марка Варшавского, который в свою очередь использовал еврейские фольклорные темы, возможно, даже восходящие к гимну эпохи восстания Маккавеев (2 век до н.э.).
М.Г.Рольникайте рассказывает, как и из чего возникали песни в гетто:
«Песни, как правило, создавались на готовые популярные мелодии. На музыку М.Блантера (песня “Партизан Железняк”) легли слова, рассказавшие об одной конкретной ночи – 16 августа 1943 г. в Вильнюсском гетто. Гестапо потребовало выдать руководителя партизанской организации И.Витенберга, пригрозив в противном случае уже утром начать полную ликвидацию всего гетто. На И.Витенберга была устроена настоящая охота… Его поймали, повели, но друзья-партизаны сумели его отбить. Однако И.Витенберг, чтобы не стать причиной гибели более двадцати тысяч узников пока еще существующего гетто, решил отдать себя в руки гестапо… События этой ночи и воссозданы песней “Комендант”.
Маршеобразная песня немецкого барда Ганса Эйслера с известным припевом “Друм эйнс, цвай, драй!” послужила основой, как бы каркасом для мелодекламации под тем же названием.
…Первое время я работала на стройке. Таскала и дробила камни. Позже, к счастью, попала на ткацкую фабрику. И вот однажды, во время ночной смены, станок как бы сам стал выстукивать на мотив песни “Любимый город” Н.Богословского: “Станок мой десять, десятая машина, пять тысяч семь теперь мое имя. Холод – брат, а голод – сестра, но я стою, я тут стою, работаю”.
…Выходных в лагере, естественно, не полагалось. Но по воскресеньям фабрики работали только полдня. Поэтому всю вторую половину дня мы должны были маршировать по лагерю и петь на мотив какого-то немецкого марша: “Мы были господами мира, теперь мы вши мира”. Очевидно, из духа противоречия я сочинила для этого вышагивания “Штрасденгофский гимн”, но совсем на другой мотив и, конечно же, с другим текстом… Такой же всеобще-лагерной осталась и песня “Спорт”, тоже написанная “назло” – после того, как надзиратель заставил нас прыгать на согнутых ногах, “по-лягушечьи”.
Во время ликвидации Виленского гетто в 1943 году Гирш Глик пытался вырваться из города, но был схвачен и отправлен в концлагерь Готфилд на территории Эстонии. Летом 1944 года во время наступления Красной Армии в Прибалтике около 40 заключенных лагеря (в их числе и Глик) совершили побег и скрылись в лесах; дальнейший его след теряется. В некоторых источниках указано, что он присоединился к партизанскому отряду и погиб в бою с гитлеровцами.
Мировая слава пришла к «Зог нит кейнмол» после войны. Гимн был переведен на десятки языков. Знаменитый американский чернокожий певец-коммунист Поль Робсон неожиданно исполнил песню в Москве в 1949-ом, под названием «Песня Варшавского гетто» – наполовину по-английски, наполовину на идише – прямо в разгар «борьбы с космополитизмом». Этот жест не был случайным – во время визита Робсон настойчиво интересовался судьбой расстрелянного к тому времени Соломона Михоэлса и сидевшего в тюрьме Ицика Фефера – своих друзей из Еврейского антифашистского комитета, вместе с которыми он в 1943 году собирал в США средства для Красной Армии. Такое поведение сильно осложнило отношения Робсона с советской верхушкой.
В 1972 в Нью-Йорке году вышел сборник переводов “Зог нит кейнмол” на 11 языков. Слова гимна высечены на памятнике еврейским партизанам в Бат-Яме. Каждый год, отмечая день восстания в Варшавском гетто, хор Войска Польского исполняет его на идише.
Боевая жизнь песни продолжается – в 2019 году около 1000 еврейских активистов и сочувствующих заблокировали движение в центре Бостона, протестуя против тюрем для мигрантов. Отсылая к истории унижений, скитаний, депортаций евреев, они скандировали «Никогда снова» и пели «Зог нит кейнмол»…
В СССР гимн был впервые опубликован в книге А.Суцкевера “Виленское гетто” в 1946 году, на русском языке – в “Избранных произведениях” П.Маркиша в 1960 году. С тех пор появилось множество русских версий, однако, насколько нам известно, песня никогда не исполнялась на русском. Мы выбрали перевод, сделанный ученым-химиком и литератором Яном Кандрором, и решили записать песню в рамках нашего проекта «Трансъевропейский партизанский джем». Это альбом песен партизан-антифашистов Второй мировой – от советской «В лесу прифронтовом» до испанской Ay Carmela – записанных дистанционно, в коллаборации с музыкантами из Европы.
Для видеоряда к песне художник Хаим Сокол предложил цикл из 85 графических работ, «кошмарную историю», в которой народные массы и дикие существа сражаются против жестоких сил (а может, все сражаются друг с другом). Толпы, преследуемые животными, идут маршем, выстраиваются у могил. То и дело возникает изображение маленького мальчика с крохотным мечом и квадратным щитом – видимо, главного героя неизвестного эпоса.
Для Хаима рисование – это форма письма. Вот почему персонажи его черно-белых графических работ часто выглядят как буквы, как символы некоего призрачного алфавита. В его рисунках-письменах зашифрованы реальные истории.
Цикл «Восстание» основан на воспоминаниях отца художника – Долика Сокола.
«Мой отец в 11 лет попал в гетто в оккупированной фашистами Украине, чудом избежал расстрела, скрывался, и в конце концов воссоединился со своими родителями в партизанском отряде, – рассказывает Хаим. – В составе партизанского отряда он воевал до освобождения Украины от фашистов. Но в детстве папа не рассказывал мне все от начала до конца. Периодически, на протяжении всей моей жизни, он вспоминал какие-то эпизоды. Поэтому в этой истории много лакун. Чего-то он не помнит. Что-то я сам забыл или придумал. В моей серии воспоминания смешиваются с фантазиями. История маленького мальчика обретает мифологические черты и превращается в эпос. В нем, как в палимпсесте, смешиваются антиримское восстание Бар-Кохбы, Октябрьская революция и Вторая мировая война. Поэтому в руках у мальчика меч, а вместо щита – черный квадрат»…
Никогда не говори, что борьба со злом закончена, никогда не говори, что она обречена, – примерно так звучит для нас сегодня послание этой великой еврейской и интернациональной песни…
В публикации использован рисунок Хаима Сокола из серии “Восстание”, гуашь\бумага, 2020

lechaim.ru
В начале декабря ушел из жизни историк литературы Борис Фрезинский. «Лехаим» публикует фрагменты книги Фрезинского «Мозаика еврейских судеб. ХХ век», вышедшей в издательстве «Книжники» в 2009 году.
«Подвиг» чекистов
Поздним вечером 12 января 1948 года в Минске палачи из госбезопасности по прямому указанию Сталина убили Соломона Михайловича Михоэлса — народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного еврейского театра, председателя Еврейского антифашистского комитета СССР (ЕАК), человека мировой славы и мирового авторитета. Это убийство — первое в длинной серии разработанных «органами», в серии, осуществление которой прервала лишь смерть главного заказчика.
Если бы, казнив Михоэлса, ГБ тут же объявила его врагом, шпионом и кем угодно еще, страна это приняла бы покорно: граждане СССР не имели права сомневаться в справедливости всего, что творили под общим руководством вождя доблестные чекисты. Но в случае С. М. Михоэлса реализован нестандартный вариант — после казни были напечатаны официальные некрологи «выдающемуся советскому художнику» (в них Михоэлс даже не «погиб», а попросту «умер»), организованы торжественные похороны, проведены вечера памяти, театру и студии присвоено имя покойного, создан его мемориальный кабинет. Все это, безусловно, подтверждало официальную версию: не казнь, не убийство, а смерть в результате случайного автомобильного наезда. Но тогда, рассуждали граждане, это дело находится в компетенции не ГБ, а всего лишь милиции, а милиция как‑никак имела право на отдельно взятые ошибки, во всяком случае, сомнения в правильности ее действий преследовались не столь сурово.
Так поползли по Москве слухи, поползли из кругов, близких к казненному. Например, кто‑то из видевших обнаженный труп Михоэлса говорил, что на его теле не было иных повреждений, кроме височной раны. Это опровергало версию об автомобильном наезде. Значит, убийство. Но на руках убитого тикали золотые часы. Значит, не грабители. Были слухи, что расследовать это дело поручили знаменитому Льву Шейнину; он прибыл в Минск, начал работать, но неожиданно был отстранен, уволен с работы, а затем арестован. Народная молва готова была даже из палача Шейнина сделать борца за справедливость (Шейнин, скорее всего, неправильно понял заказчиков и начал что‑то искать). Затем, в кругах ВТО знали, что вместе с Михоэлсом в Минск (это была поездка от Комитета по Сталинским премиям для просмотра выдвинутых на премию спектаклей) должен был ехать критик Головащенко и, хотя командировочные документы на него уже были оформлены, за два дня до поездки вместо Головащенко было велено послать Голубова‑Потапова, театрального критика, уроженца Минска, еврея, человека симпатичного, но пьющего и, как потом выяснилось, находящегося у ГБ на крючке. Люди, провожавшие Михоэлса в Минск, видели, что Голубов‑Потапов был не в себе, жаловался друзьям, что ехать не хотел, но приказали. В Минске были свидетели того, как Голубову‑Потапову кто‑то позвонил в гостиницу, слышно было плохо, вроде позвали в гости, и Михоэлса тоже. По дороге в эти гости их обоих и убили.
Когда в конце года закрыли ЕАК и арестовали его деятелей, закрыли театр Михоэлса, закрыли еврейское издательство и т.д. и т.п., а следом еще начали яростную антисемитскую кампанию в газетах и на собраниях, тогда уже граждане могли догадаться, что убийство Михоэлса все‑таки не по милицейской части.
Когда убили Михоэлса, мне было 7 лет, и ничего об этом событии я не знал. Необычную фамилию Михоэлс впервые услышал ровно через 5 лет после убийства, 13 января 1953‑го, когда объявили об аресте «врачей‑убийц», которые через «еврейского буржуазного националиста Михоэлса» были связаны с западными разведками. Не прошло и 4 месяцев, как врачей реабилитировали, некоторых палачей посадили, а перечисляя их преступления, сообщили, что ими также «был оклеветан народный артист СССР, советский патриот С. М. Михоэлс».

Расследование, которое тогда провел по личной инициативе Л. Берия, не сделали гласным; гласными были только слухи и версии. В том же 1953‑м я услышал такую версию от нашей соседки по коммуналке (она была родом из Минска, и ее отец, крупный медик, академик, продолжал там жить и работать, что придавало версии дополнительную достоверность): Михоэлса по телефону пригласили в гости, сказали, что в восемь вечера за ним придет машина; машина пришла без четверти восемь, и Михоэлс уехал, а ровно в восемь пришла другая машина, и ее водитель удивился, узнав, что Михоэлс уже уехал; ну а утром какой‑то старый еврей, шедший с окраины в город, увидел торчавшие из сугроба ноги… Про золотые часы, тикавшие на руке убитого, там тоже было.
Эта версия не упоминала Голубова‑Потапова и разводила преступников и организаторов приглашения…
В 1957 году вышла на русском книга избранных стихов еврейского поэта Переца Маркиша, первая после его ареста в 1949‑м и расстрела; в ней напечатали переведенную Арк. Штейнбергом поэму (или цикл из 7 стихотворений) «Михоэлсу — неугасимый светильник (У гроба)». В поэме устами Михоэлса прямо говорилось об убийстве:
О Вечность! Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ, сберег,
Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны.
Маркиш — поэт, и в его сознании смерть Михоэлса связывалась с недавней Катастрофой:
Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям
Шесть миллионов жертв, запытанных, невинных…
Ты тоже их почтил, как жертва пав за них
На камни минские, на минские сугробы…
Книгу эту готовили в пору XX съезда, и цензура поэму пропустила, не придав ей значения политического намека, но ни в одном последующем советском издании Маркиша поэмы уже не было (теперь известно, что в ходе следствия и суда Маркишу инкриминировали поэму как клеветническую).
Обвинений ГБ в убийстве Михоэлса цензура не пропускала, и многоопытный по части ее обдуривания Илья Эренбург протащил на страницы своих мемуаров утверждение, что Михоэлса убили «агенты Берии», сославшись на какую‑то литовскую газетку (в те времена газетные тексты почитались как документ). В том же 1965 году, перед самым наступлением застоя, напечатали воспоминания А. Тышлера о Михоэлсе с такими строчками: «Я сопровождал его тело к профессору Збарскому, который наложил последний грим на лицо Михоэлса, скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс лежал обнаженный, тело было чистым, неповрежденным». Для людей с памятью это было многозначительно.
С окончанием «оттепели» неупоминаемым в СМИ стало не только убийство Михоэлса, но и он сам.
В 1975 году в гостях у вдовы Михоэлса Анастасии Павловны Потоцкой я расспрашивал ее о событиях 1948 года. В ее рассказе было два эпизода, которые, мне кажется, не попали в печать. Вскоре после похорон Михоэлса к Анастасии Павловне явился поэт И. Фефер и привел с собой несколько человек в велюровых шляпах («Я до сих пор их отчетливо помню», — заметила А. П.): «Нужно отдать все материалы, связанные с поездкой Михоэлса в США». «Мне пришлось подчиниться, и все это исчезло». Напомню, что, как теперь официально признано, И. Фефер, давний антагонист Михоэлса, был многолетним агентом ГБ; его приставили к Михоэлсу во время поездки в 1943 году в США для сбора средств в помощь Красной армии и потом — в ЕАК; на показаниях Фефера в основном базировались обвинения в шпионаже деятелей ЕАК. Второй эпизод — удивителен. После объявления Михоэлса врагом на кладбище, где была захоронена урна с его прахом (деятелей культуры его масштаба принято было хоронить на Новодевичьем; Михоэлса же кремировали не случайно), приехали некие молодые люди и объявили директору, что им велено ликвидировать могилу Михоэлса. Директор ответил: «Пожалуйста, только прежде предъявите мне мандат на это». Никакого мандата не было, и, сказав, что они его забыли и привезут завтра с утра, молодые люди исчезли навсегда — дать официальную бумагу на уничтожение могилы никто не решился…
Еще в застойные годы из книги Светланы Сталиной, оказавшейся случайным свидетелем телефонного доклада Сталину о выполнении его задания, стало известно, что версию об автомобильном наезде на Михоэлса предложил сам «отец народов». Версия эта прочно засела в головы организаторов убийства, и, когда в марте 1953‑го они по запросу Берии давали показания, подробности «наезда» выскакивали из них автоматически.
Сегодня ряд документов по делу об убийстве Михоэлса опубликован Архивной службой России; наиболее полно они представлены в томе «Государственный антисемитизм в СССР. 1938—1953», изданном Международным фондом «Демократия» в серии «Россия, ХХ век» (М., 2005).
Приведем отрывок из объяснительной записки, адресованной Л. П. Берии на тринадцатый день после смерти Сталина одним из убийц Михоэлса, полковником госбезопасности Ф. Г. Шубняковым (в этой записке В. И. Голубов‑Потапов именуется «агентом» ГБ, кем он и был; упоминаются также министр госбезопасности СССР Абакумов, его первый заместитель Огольцов и министр госбезопасности Белоруссии Цанава); речь идет о событиях в Минске 12 января 1948 года:
«Мне было поручено связаться с агентом и с его помощью вывезти Михоэлса на дачу где он должен быть ликвидирован. На явке я заявил агенту, что имеется необходимость в частной обстановке встретиться с Михоэлсом, и просил агента организовать эту встречу. Это задание агент выполнил, пригласив Михоэлса к “личному другу, проживающему в Минске”. Примерно в 21 час я и работник спецслужбы Круглов (в качестве шофера) подъехали в условленное место, куда явились агент и Михоэлс, с которым я был познакомлен агентом, и все отправились ко мне на “квартиру”, т.е. на дачу т. Цанава. На даче была осуществлена операция по ликвидации Михоэлса.
После того как я доложил т. Огольцову, что Михоэлс и агент доставлены на дачу, он сообщил об этом по ВЧ Абакумову, который предложил приступить к ликвидации Михоэлса и агента — невольного и опасного свидетеля смерти Михоэлса.
С тем чтобы создать впечатление, что Михоэлс и агент попали под автомашину в пьяном виде, их заставили выпить по стакану водки. Затем они по одному (вначале агент, а затем Михоэлс) были умерщвлены — раздавлены грузовой автомашиной.
Убедившись, что Михоэлс и агент мертвы, наша группа вывезла их тела в город и выбросила их на одной из улиц, расположенных недалеко от гостиницы. Причем их трупы были расположены так, что создавалось впечатление, что Михоэлс и агент были сбиты автомашиной, которая переехала их передними и задними скатами…»
28 октября 1948 года по решению Политбюро Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успешное выполнение задания правительства» были награждены: министр государственной безопасности СССР Абакумов, первый заместитель министра госбезопасности СССР Огольцов, генерал‑лейтенант Цанава — орденом Красного Знамени; старший лейтенант Круглов, полковник Лебедев и полковник Шубняков — орденами Отечественной войны I степени.
Главного организатора убийства Михоэлса И. В. Сталина за общую организацию операции, равно как и за организацию всех предшествующих и последующих убийств, Политбюро наградой не отметило. За беспрекословное выполнение задания не был посмертно награжден и В. И. Голубов‑Потапов .
2 апреля 1953 года этот Указ о награждении от 28 октября 1948 года был отменен.
То, что Российское государство до сих пор не сочло необходимым представить миру официального документа об организации одного из самых мрачных по его последствиям политического убийства XX века, разумеется, не случайно. Сталинское прошлое еще долго будет тащить назад страну, не имеющую духа решительно и бесповоротно с ним порвать.
Генерал Сергей Трофименко и актер Соломон Михоэлс
Минск, 1948
За долгие годы, прошедшие после убийства С. М. Михоэлса, об этом преступлении возникла обширная литература — документальная, публицистическая, мемуарная. Многие сюжеты кочуют из одной книги в другую. Расскажем об одном из них — его изложение в книгах мемуаристов и публицистов нуждается, как представляется, в принципиальном уточнении.
Сюжет этот связан с именем генерала С. Г. Трофименко. Его имя в контексте михоэлсовской темы для людей, имевших отношение к самому близкому окружению генерала и актера (сюда придется включить и «специалистов» ГБ, занимавшихся обоими), впервые возникло в книге Н. Вовси‑Михоэлс «Мой отец Соломон Михоэлс» (Тель‑Авив, 1984). С тех пор без него, как правило, не обходилась литература о гибели Михоэлса.
Биография генерала С. Г. Трофименко сегодня известна разве что военным историкам. Потому приведем здесь краткие сведения из нее, хронологически связанные с нашим сюжетом. Сергей Георгиевич Трофименко (1899‑1953) после участия в советско‑финской войне командовал с января 1941 года Среднеазиатским военным округом. В первых числах декабря 1941 года он отбыл из Ташкента на фронт, где провел всю войну, командуя сначала группой войск, а затем, с 1942 года, армиями. В 1944 году ему было присвоено воинское звание генерал‑полковника и звание Героя Советского Союза. Послевоенная его карьера выглядит так: 1945‑1946 годы — командующий Тбилисским военным округом; 1946‑1949 годы — командующий Белорусским военным округом; 1949‑1953 годы — командующий Северо‑Кавказским военным округом. С 1946 года генерал Трофименко был депутатом Верховного Совета СССР.
Источником всей информации на тему «Трофименко — Михоэлс» является вторая жена генерала И. Д. Трофименко. Информация эта (точнее, опубликованная ее часть) содержится в рассказах И. Д. Трофименко трем лицам: Л. С. Трофименко — дочери генерала от первого брака (его пересказывает в книге «Мой отец Соломон Михоэлс» Н. Вовси‑Михоэлс), Э. Е. Лазебниковой‑Маркиш — жене поэта Переца Маркиша (см. ее воспоминания «Столь долгое возвращение…»), С. Д. Глуховскому — писателю военной темы, уроженцу Белоруссии (рассказанное ему напечатано в пересказе писателя А. Борщаговского — см. его книгу «Записки баловня судьбы»). Собственные воспоминания, записки или дневники И. Д. Трофименко (до войны закончившей, кстати сказать, Литературный институт в Москве) — неизвестны.
Сразу перечислим пороки напечатанных пересказов того, что говорила И. Д. Трофименко. Это — небрежности, допущенные в книге дочери Михоэлса; вольность изложения (если не сказать сильнее), свойственная тем страницам воспоминаний Э. Маркиш, где речь идет не о ней самой; сомнительность свидетельств Глуховского. Все названные пороки множились впоследствии при тиражировании этих пересказов разного рода авторами. Возникавшие в результате контаминации допускали самые невероятные выводы — вплоть до использования генерала Трофименко спецслужбами для решения поставленной Сталиным задачи ликвидации Михоэлса.
Именно это породило настоятельную необходимость ввести в исторический оборот свидетельства, уточняющие опубликованные пересказы. Есть надежда, что таким образом удастся прояснить накопившиеся несообразности и устранить самую возможность нелепых предположений.
А теперь перейдем к существу вопроса.
Напомню, что народный артист СССР, художественный руководитель Государственного еврейского театра (ГОСЕТ), председатель Еврейского антифашистского комитета СССР Соломон Михайлович Михоэлс вечером 7 января 1948 года вместе с уроженцем Минска театральным критиком В. И. Голубовым‑Потаповым (как ныне известно, секретным сотрудником ГБ) по командировке Комитета по Сталинским премиям выехал из Москвы в Минск для просмотра выдвинутого на Сталинскую премию спектакля Белорусского драмтеатра «Константин Заслонов». А 12 января примерно в 22 часа Михоэлс вместе с Голубовым были убиты спецгруппой ГБ, осуществлявшей прямой приказ Сталина. Трупы Михоэлса и Голубова обнаружили утром 13 января, в день предполагаемого возвращения в Москву.
Какими неожиданностями оборачиваются иные знакомства
Мне было 12 лет, когда я впервые узнал об убийстве Михоэлса (тут ни убавить, ни прибавить — я был вполне политизированный ребенок). По понятной причине это хорошо запомнилось — дело было 4 апреля 1953 года. Услышав в тот день из громкого разговора старших в школьной библиотеке, что «врачи‑убийцы» реабилитированы, я прочел об этом после школы в «Правде», откуда узнал и другое: народный артист СССР Михоэлс был оклеветан врагами. Дома я спросил про Михоэлса у наших соседей по большой коммуналке (о врачах‑убийцах я знал и так — моя мама работала в поликлинике, где я ошивался все детство, и хорошо помню атмосферу антисемитской истерии, которая царила там с января 1953 года, а вот об актере с такой странной фамилией Михоэлс ничего не знал). То, что в ответ на мой вопрос рассказала мне Г. Д. Кошелева, я запомнил навсегда. Надо сказать, что и Галина Даниловна, специалист по французской литературе, окончившая аспирантуру филфака ЛГУ, и ее муж, математик А. И. Кошелев, очень приветливо ко мне относились, неизменно давая мне широко пользоваться их домашней библиотекой. Историю, которую Г. Д. мне тогда рассказала, я хорошо помню. Вот она. Артист Михоэлс приехал из Москвы в Минск; в один из дней его пригласили в гости, пообещав прислать за ним машину. Машина пришла несколько раньше, чем он ждал, и он на ней уехал. А в точно назначенное время пришла другая машина, и ее шофер очень удивился, что Михоэлса уже увезли. На следующее утро какой‑то старый еврей шел с окраины Минска в город (эта литературная подробность мне тоже запомнилась) и увидел, что из сугроба торчат ноги, он за них дернул и вытащил труп. Это был Михоэлс. Золотые часы на его руке никто не украл. История эта была, несомненно, минского происхождения, поскольку Г. Д. — уроженка Минска и ее отец, Д. А. Марков, крупный невропатолог, академик, продолжал жить и работать в Минске. Сходный рассказ возникнет по ходу нашего повествования еще раз… Чтобы закончить с детскими воспоминаниями, упомяну, что в 1950‑е годы к Г. Д. Кошелевой часто заходила ее подруга по филфаку, очень яркая молодая женщина, которую звали Ляля; вскоре она стала женой проф. Макогоненко. Как я теперь знаю, она тоже была родом из Белоруссии и дружила с неизвестной мне тогда дочерью генерала Трофименко (об этом я еще скажу).
Прежде чем приступить к изложению существа дела, еще одно необходимое отступление — на сей раз о главном источнике моей информации.
Книгу «Мой отец Соломон Михоэлс» я прочел только в московском издании 1997 года, когда уже многое, связанное с гибелью Михоэлса, официально прояснилось, и потому воспоминания его дочери к описанию трагедии 1948 года добавляли немногое (московское их издание практически повторяло тель‑авивское, за исключением, увы, информативного факсимиле командировочного удостоверения Михоэлса в Минск). На имя генерала Трофименко я не обратил тогда особого внимания и даже того, что оно уже встречалось мне в других сочинениях перестроечной поры, не вспомнил. Только теперь, перечитывая материалы о гибели Михоэлса, что называется, другими глазами, я обращал пристальное внимание и на имя генерала, и на относящиеся к нему факты и эпизоды, описание которых в одной книге подчас противоречило другой. Поясню, почему «другими глазами».
С женой питерского математика профессора Д. М. Эйдуса Лидией Сергеевной (она преподавала математику в Ленинградском институте авиаприборостроения и одновременно профессионально занималась живописью и графикой) я познакомился в 1970‑е годы, то есть до их отъезда в Израиль. В 2000 году в Иерусалиме я с радостью побывал в гостеприимном доме Эйдусов. Потом мы переписывались и регулярно говорили по телефону. За это время Л. С. Эйдус в Иерусалиме издала две книги — проиллюстрированный ею «Процесс» Кафки и альбом своих пастелей к различным произведениям этого, любимого и глубоко ею прочувствованного, классика мировой прозы ХХ века, а в Питере прошла выставка ее живописи, графики и гобеленов. По просьбе Л. С. издание иллюстрированного ею «Процесса» я передал в различные культурные центры Питера, и, в частности, в музей Ахматовой, которая Кафку высоко ценила. Когда я сообщил об этом Л. С., она рассказала, что во время войны со своими мамой Мириам Израилевной Летичевской и бабушкой эвакуировалась в Ташкент. Отец, устроив в Ташкенте ее мать и бабушку, настоял на том, чтобы Л. С. жила в его доме, и, уезжая на фронт, не разрешил ей покинуть дом, где оставалась его вторая жена Ирина Дмитриевна с двумя мальчиками. Мачеха организовала у себя нечто вроде литературного салона — именно там Л. С. увидела А. А. Ахматову и даже, по ее просьбе, читала наизусть ахматовские стихи. Услышав это, я попросил Л. С. описать для меня ее ташкентскую встречу с Анной Андреевной и вскоре получил от нее подробное письмо, которое передал в архив Музея Ахматовой в Фонтанном доме . Однако мы в самом деле ленивы и нелюбопытны, и об отце Л. С., командовавшем перед войной Среднеазиатским военным округом, и даже о его фамилии — я ничего не спросил.
Следующий ташкентский сюжет, раскрывшийся в ходе наших разговоров и переписки, был связан с С. М. Михоэлсом. Тут уж мне стало известно имя генерала Трофименко (раньше я думал, что в Питере Л. С. носила фамилию мужа, но это произошло только в Израиле). Узнав, что рассказ Л. С., в крайне небрежном и неточном изложении, помещен в израильском издании книги дочери Михоэлса, я снова попросил Л. С. записать все собственноручно и вскоре (это был август 2003 года) получил от нее подробное большое письмо. Оно было послано в пакете, где вместе с ним оказалось издание 1984 года книги «Мой отец Соломон Михоэлс», надписанное так: «Дорогим Лиле и Дане Эйдус с любовью Тала Михоэлс. 7/II 75 г.» (надпись сделана, конечно, в 1985 году — ошибка в цифири была опиской).
Так были получены материалы, которые здесь приводятся.
Что написано о генерале Трофименко в книге «Мой отец Соломон Михоэлс» и не только в ней
(уточнения Л. С. Трофименко‑Эйдус и не только ее)
Первое упоминание генерала в книге «Мой отец Соломон Михоэлс» — в описании утра 13 января 1948 года, когда в ГОСЕТ только что поступило сообщение из Минска о гибели Михоэлса. Подробностей не было. Спустя некоторое время со ссылкой на портье гостиницы «Беларусь», где жил Михоэлс, сообщили о телефонном разговоре Соломона Михайловича днем 12 января с неким то ли Сергеем, то ли товарищем Сергеевым, по приглашению которого Михоэлс вместе с сопровождавшим его театральным критиком В. И. Голубовым‑Потаповым отправился в гости и в гостиницу уже не вернулся. Никакого «товарища Сергеева» близкие Михоэлса вспомнить не могли, а вот по части «Сергея» им сразу же пришел в голову генерал Трофименко: «Был у нас знакомый — генерал Сергей Георгиевич Трофименко. Отец с Асей <Анастасия Павловна Потоцкая‑Михоэлс, вторая жена С. М. — Б. Ф.> познакомились с ним во время войны в Ташкенте. После войны Трофименко был назначен начальником Белорусского военного округа и жил с семьей в Минске. Стали звонить Трофименко. Его к телефону не позвали. Говорили с перепуганной взволнованной женой. Сквозь плач она пролепетала, что приедет шестнадцатого на похороны, но так и не приехала. Выяснить у нее так ничего и не удалось, хотя по ее словам папа у них в тот вечер и вообще за весь приезд ни разу не был, и Трофименко ему сам тоже не звонил» (Н. Вовси‑Михоэлс, с.251).
Первое уточнение Л. С. Трофименко‑Эйдус касается знакомства Михоэлса с генералом Трофименко в Ташкенте: «В середине декабря 1941 г. дочери Михоэлса находились еще в Свердловске, и Михоэлс с женой еще в Ташкент не прибыл. Из официальной автобиографии моего отца: «В конце ноября мне было приказано самолетом вылететь в Москву для назначения на новую должность в действующую армию. Из‑за непогоды вылететь не удалось, и я прибыл в Москву воинским поездом 9 декабря”. До Москвы поезда ходили из Ташкента 7 дней, ну воинский, возможно, дня 2— 3 сэкономил; значит, примерно со 2 декабря отец не был в Ташкенте, а Михоэлс еще туда не прибыл». Добавлю к этому замечание Л. С. о том, что в Ташкенте дочь Михоэлса вместе с А. П. Потоцкой была пару раз в гостях у И. Д. Трофименко и знала, что генерал — на фронте. Отмечу также, что Э. Е. Лазебникова‑Маркиш, тоже эвакуированная с сыновьями в Ташкент, пишет в книге «Столь долгое возвращение.» (Тель‑Авив, 1989): «Там <в Ташкенте. — В. Ф.> познакомилась я с Ириной Трофименко — женой крупного генерала Сергея Трофименко, находившегося на фронте. Ирина жила с двумя мальчиками‑сыновьями в Ташкенте, в хорошем, просторном особняке. Мы почувствовали приязнь друг к другу и вскоре, с порывистостью молодости, подружились. И эта дружба оказалась прочной. Так и повелось, что частенько стали захаживать к Ире Трофименко обнищавшие писатели — в ее богатом и относительно благополучном доме было приятно провести время. Сергей Трофименко вернулся с фронта лишь в конце войны, в мае 1945, и большинство завсегдатаев “салона” познакомилось с этим милым человеком только в Москве» (с. 150‑152).
Знакомство С. М. Михоэлса с С. Г. Трофименко состоялось 23 мая 1945 года в Москве дома у Переца Маркиша, где генерал устроил банкет в честь Победы для боевых товарищей, пригласив на него и ташкентских друзей своей жены — Вс. Иванова и Михоэлса с женами и вдову Ал. Толстого (см.: Э. Маркиш. «Столь долгое возвращение.», с. 160‑161; о том, что ее отец познакомился с Михоэлсом после парада Победы в Москве, пишет мне и Л. С., заметив попутно: «Отец очень трудно сходился с людьми; друзьями богат не был, не считая тех, кто в войну был рядом. Обаяние Михоэлса помогло стать их отношениям теплыми, к тому же все они — отец с И. Д. и Михоэлс с Асей — любили выпить: не последний способ сближения…»).
Второе уточнение — о звонке к генералу Трофименко в Минск. Л. С. о словах «его к телефону не позвали» пишет с удивлением: «Он мог быть на работе, мог быть занят, наконец, и вообще его просто так к телефону не звали — таков был порядок».
Теперь третье уточнение Л. С. — о фразе, что Михоэлс, находясь в Минске, у генерала Трофименко вообще не был. Л. С. пишет мне: был и даже ночевал! Об этом И. Д. Трофименко рассказывала ей летом 1953 года, когда Л. С. приехала из Ленинграда к отцу, лежавшему в госпитале и к тому времени пережившему уже семь инсультов (разговор был по возвращении из госпиталя). В ее рассказе есть деталь из тех, что обычно не забываются: «Когда Михоэлс был у нас и остался ночевать, то после ванны я ему дала Сережин халат; это было очень смешно, мы веселились» (действительно, поясняет Л. С., 196 см роста отца и Михоэлс, рост которого, я помню, ниже среднего). Напомнив о дружбе Михоэлса с отцом, Л. С. замечает: «Поэтому, когда Михоэлс отправился в Минск, было естественно, что они встретились в хлебосольном доме моего отца».
О гибели Михоэлса написано уже очень много, есть воспоминания, контаминации документов и слухов, попытки позднейших расследований, историко‑политические обзоры и пр., однако точная и полная картина последних минских дней Михоэлса отчетливо все еще не прописана, одни свидетельства противоречат другим, да, пожалуй, все они внутренне противоречивы. Живущий в Париже А. И. Ваксберг вздыхает: «К сожалению, каждый час пребывания Михоэлса в Минске ни в одном доступном мне документе не отражен» (А. Ваксберг. «Из ада в рай и обратно». М., 2003, с. 308). Судя по тексту Ваксберга, точнее было бы сказать, что не отражен каждый минский день Михоэлса, если бы не важные свидетельства из интервью актрисы БелГОСЕТа заслуженной артистки БССР Юдифи Арончик («Родник», Минск, 1990, № 3, с. 38‑39), которые частично поддаются независимой проверке с помощью минских газет той поры.
Прежде чем привести хронику последних дней жизни Михоэлса, какой она возникает из интервью Ю. Арончик минскому литератору С. Мехову, замечу, что это единственный источник, в котором сообщается, что в Минск Михоэлс прибыл не только с критиком В. И. Голубовым (писавшим под псевдонимом В. Потапов), но и с сотрудником Комитета по делам искусств СССР, жившим в Москве белорусским писателем И. М. Барашко — всех троих поселили в гостинице «Беларусь» в двухкомнатном номере люкс.
А теперь — хроника: 8 января утром Михоэлса встречают на перроне минского вокзала официальные лица и друзья. 9 января он присутствует на спектакле БелГОСЕТа «Тевье‑молочник» (приглашение на спектакль, постановку которого Михоэлс консультировал, он получил заранее) и весь вечер после спектакля допоздна проводит с актерами театра. 10 января смотрит в Белгосдраме спектакль «Константин Заслонов» и вечер после спектакля, видимо, проводит в этом театре. 11 января посещает Белорусский театр оперы и балета и до двух часов ночи задерживается там на затянувшемся обсуждении оперы «Алеся», после чего до половины восьмого утра 12 января — застолье дома у Ю. Арончик в окружении близких друзей из БелГОСЕТа; прощаясь, Михоэлс назначает исполнителям ролей Тевье и Годл М. Соколу и Ю. Арончик в половине девятого вечера прийти к нему в гостиницу для делового обсуждения их работы (в 10 часов вечера, говорит он, вместе с Голубовым они приглашены к секретарю ЦК КП(б) Белоруссии М. Т. Иовчуку). Придя в гостиницу, М. Сокол и Ю. Арончик услышали от дежурной по этажу, что Михоэлс с Голубовым куда‑то срочно вышел и просил его обождать. Прождав до 11 часов, они ушли ни с чем, а утром Ю. Арончик пришла в гостиницу, чтобы проводить Михоэлса в Москву…
Проверка основных дат по минским газетам показывает, что, хотя со времени убийства Михоэлса и прошло более сорока лет, память актрису не подвела и даты она указала верно.
Подшивки всех белорусских газет за январь 1948 года, просмотренные мною в РНБ, произвели впечатление девственности. О приезде Михоэлса в столицу Белоруссии ни одна газета не сообщила, хотя великие артисты в Минск приезжали отнюдь не каждый месяц. А сообщение о его гибели появилось только 16 января (ГОСЕТ в центральной «Правде» еще 14 января известил о «внезапной и безвременной кончине» своего руководителя). Текст некролога и четырех сообщений четырех театров Минска в обеих ежедневных минских газетах (одна — на русском, другая — на белорусском) был абсолютно одинаков, с употреблением нейтрального слова «умер», а где и как — о том ни гугу. (Замечу, что еженедельная «Література і мастатцтва» 17 января поместила те же тексты и еще фотографию Михоэлса, не указав, конечно, что снимок сделан в Минске 11 января 1948 года; газеты Белорусского военного округа «Во славу Родины», комсомола «Сталинская молодежь» и газета «Железнодорожник Белоруссии» о Михоэлсе не писали и программы театров не давали.) Минские газеты «Советская Белоруссия» и «Звязда», публиковавшие репертуар театров, сообщили, что в пятницу 9 января в Белорусском гос. театре драмы им. Янки Купалы шел «Тевье‑молочник» Государственного Еврейского театра Белоруссии (по‑белорусски: Яурейскога тэатра; своего зрительного зала у него не было). А вот спектакль Белгосдрамы «Константин Заслонов» шел трижды — в субботу 10 января в 20 часов, в воскресенье 11 января в 12 часов дня и в 20 часов. Естественно, что Михоэлс смотрел его 10 января. К сожалению, в воскресенье 11 января газеты не напечатали программу театров (в этот день в Белоруссии были выборы, и газетные полосы заполняли материалы на эту тему), в понедельник 12 января минские газеты не выходили. Таким образом, об оперном спектакле «Алеся» получить информацию не удалось.
Ну вот, теперь, наконец, вернемся к нашей основной теме — встрече Михоэлса с генералом Трофименко. Выезжая из Москвы, Михоэлс знал, что 9, 10 и 11 января его ждут спектакли, и вполне мог бы приехать в Минск утром 9‑го. Однако он приехал 8‑го, и предположение, что именно для того, чтобы повидаться с генералом Трофименко, — не является натяжкой. Дело в том, что вплоть до утра 7 января считалось, что вместе с Михоэлсом в Минск едут и Перец Маркиш с женой, давние друзья Трофименко, которых он звал в гости, поздравляя с Новым годом 2 января, и, узнав о командировке Михоэлса в Минск, они решили ехать с ним, чтобы вместе отправиться к генералу. Торчать в Минске из‑за белорусских спектаклей им никакого смысла не имело, и, поскольку о поездке они генералу сообщили заранее, ясно, что для визита и был выбран первый же день. За несколько часов до отъезда Маркишу пришлось, однако, сдать железнодорожные билеты, так как еврейское издательство загрузило его срочным чтением верстки (см.: Э.Маркиш. «Столь долгое возвращение…». Тель‑Авив, 1989, с. 173174) — не иначе как стараниями агента ГБ Фефера, выполнявшего заказ своих хозяев, которым лишний свидетель в Минске был не нужен. Сам Фефер был направлен ГБ в Минск чуть позже, и Михоэлс неожиданно обнаружил его в гостинице «Беларусь» утром 11 января, а 12‑го плотно встречался с ним и расстался в 18 часов…
Итак, дату встречи Михоэлса с генералом Трофименко можно считать точно установленной — вечер 8 января с ночевкой.
Отмечу попутно, что в двух опусах встречу Михоэлса с генералом Трофименко неверно относят на вечер 12 января. Э. Маркиш, рассказывая о своем визите в московский дом И. Д. Трофименко в 1956 году, вкладывает эту информацию в уста некоего высокопоставленного генерала: «В КГБ прекрасно знали, что Трофименко дружен с Михоэлсом. Знали, что последний день Михоэлс провел у Сергея, а оттуда пошел на спектакль, после которого был убит» (с. 176). А. Борщаговский в «Записках баловня судьбы» приводит со слов уроженца Белоруссии писателя Самуила Давыдовича Глуховского (его имя даю по московскому справочнику) неизвестно когда услышанный им рассказ И. Д. Трофименко: «Писатель Семен Глуховский, мой давний друг, не удовлетворенный моим рассказом об этом убийстве (на страницах журнала «Театр»), предлагает другую легенду, с которой он за десятилетия так сжился, что все другие кажутся ему крайне сомнительными. В тот роковой вечер <т.е. 12 января. — В. Ф.> Михоэлс, оказывается, допоздна засиделся в гостях у генерала Трофименко, и вот как вдова генерала спустя годы вспоминала случившееся: “Это был лучший друг нашего дома. Мы подружились еще в Ташкенте, муж обожал Соломона Михайловича. И ведь не хотела я его в тот вечер отпускать — он приехал в Минск, и когда еще свидимся? У него в гостинице не было ванной — я вызвалась разогреть ванную, убеждала его не уходить, переночевать у нас. Но какой‑то звонок (по телефону) его встревожил, он ушел, а утром — дикая, потрясающая новость.”» (с. 155). Приведя эти слова, А. Борщаговский негодует: «Возникает и чувство протеста, и недоумение в связи с этой версией: как мог командующий округом, генерал‑полковник, бог и царь, отпустить Михоэлса одного на темные улицы Минска, к полуночи, в тревожный, еще не отстроенный мир, на улицы города, в недавнем прошлом снесенного с лица земли? Как мог он не вызвать для Соломона Михайловича машину, которая всегда к его услугам?» (с. 155‑156). Впрочем, к этой версии Борщаговский относится скептически («С. Глуховский уверяет, что сам выслушал горестный рассказ вдовы Трофименко, но это не прибавляет рассказу достоверности» — с. 156), хотя с его легкой руки она тиражируется многими авторами (например, «историком‑центристом» Г. Костырченко, вещающим и в журнале «Лехаим», и в «Нашем современнике».).
С последним в жизни С. М. Михоэлса вечером 12 января 1948 года картина теперь более или менее прояснилась, так что отпадают и другие версии, генерала Трофименко не затрагивающие, — 12 января Михоэлс‑де был в театре на спектакле (см. воспоминания Э. Маркиш — с. 176, книги М. Гейзера «Соломон Михоэлс» — с. 193 и А. Ваксберга «Из ада в рай и обратно» — с. 309).
Вернемся к письму Л. С. Трофименко‑Эйдус о последнем в жизни Михоэлса посещении генерала Трофименко; оно содержит еще одно и важное свидетельство: Михоэлс в гостях у генерала был оЭин — без Голубова‑Потапова! Л. С. пишет по этому поводу: «Ирина Дмитриевна никогда имени‑фамилии такой не слышала, и никогда у них такого человека в доме не было, — и добавляет: — Отец был очень осторожным человеком; приехать к нему на машине по его приглашению и то было не просто (часовой у ворот, проверка документов и т.д.)… Да никогда отец не пустил бы незнакомого человека в свой дом. Дом прослушивался, вечно там болталось много народу — и работница, и адъютант, и ординарец, и т.п. Выпивать с незнакомым человеком? Никогда!.. Дома всех высших военных чинов в Минске были за забором, и проходили к ним через будку с охраной» (если допустить невероятное: Михоэлс взял Голубова с собой, не спросясь генерала, то его все равно не пропустили бы). Замечу в связи с этим, что реплика Борщаговского о рассказе И. Д., изложенном Глуховским: «Вдова Трофименко каким‑то образом потеряла Володю Голубова, а ведь он, что ни говори, был в эти часы с Михоэлсом и убит одновременно с ним» (с. 156), еще раз говорит о том, что версия, будто Михоэлс был у Трофименко именно в вечер убийства 12 января, — неверна.
Теперь о последнем эпизоде с генералом Трофименко в книге «Мой отец Соломон Михоэлс». Хронологически он относится уже к началу 1980‑х годов: «Недавно в Израиль приехала дочь генерала Трофименко, того самого, с которым Михоэлс познакомился в Ташкенте и который был командующим Белорусским военным округом в 1948 году во время убийства отца. Она мне рассказала со слов своей мачехи, жены Трофименко, что в тот роковой вечер отец был действительно приглашен к генералу. Трофименко выслал за ним свою машину с шофером, но в гостинице страшно удивились и сообщили, что машина генерала Трофименко уже забрала Михоэлса и Голубова.
— Когда?
— Да с полчаса назад.
Так, спустя тридцать два года после убийства, нам открылось еще одно звено в сложной цепи злодейской инсценировки» (с. 276—277).
Как возник этот рассказ в книге, Л. С. Трофименко‑Эйдус объясняет в своем письме ко мне. Разговор шел за обедом у дочери Михоэлса, никаких записей ее рассказа не велось; сообщив все, что ей было известно со слов мачехи, Л. С. рассказала и о слухах об убийстве Михоэлса, которые ходили в Минске, и привела один из них: «В дни, когда уже стало известно о гибели Михоэлса, я приехала из Ленинграда в Москву. Мама жила тогда в Москве, и, приезжая к ней даже на несколько дней, я должна была обойти всех ее главных подруг. Так я попала к ее подруге по имени Мэри Григорьевна, у которой гостила некая дама из Минска — мать служившего там офицера и свекровь успешно начинавшей карьеру актрисы Белорусской госдрамы. Кто я — дама не знала. Военный городок внутри Минска невелик, там все знают и всё знают раньше всех. С большим жаром, приехав прямо оттуда, где все произошло, она стала рассказывать новости: к гостинице‑де подъехала машина командующего, приехала она за Михоэлсом, но в гостинице сказали, что машина от командующего только что уехала. (Всему военному городку, конечно же, было известно, как и в театре, что Михоэлс был в гостях у командующего). Я упомянула об этом вскользь, когда говорила с Талой, но о Голубове вообще не могла сказать ничего, т.к. ничего о нем не знала. Что осталось от моего рассказа в голове Талы, Вы видите». Замечу здесь от себя, что именно эту, видимо тогда ходовую, версию я слышал в 1953 году от минчанки Г. Д. Кошелевой. Изучение такого рода мифологии — социологически значимая задача для историков, тем паче что в этой легенде использование автомобиля для доставки жертвы к месту гибели оказалось угаданным точно.
Приведу еще один фрагмент из письма Л. С. Трофименко‑Эйдус, связанный с моими детскими воспоминаниями, о которых упоминал, — мир действительно тесен: «Моя подруга, жена проф. Макогоненко, некая Ляля (< Людмила Семеновна. — Б. Ф.> Пайкина по отцу) была < приемной. — Б. Ф.> дочерью начальника по медицинской части в Белорусском военном округе <хирург, генерал Петров. — Б. Ф.>. Она мне рассказывала, что, несмотря на то что ее отец был «самым главным» врачом округа и генералом «от медицины», когда он захотел присутствовать на вскрытии Михоэлса, то охрана его не допустила…»
Что же касается рассказа Л. С., приведенного в книге «Мой отец Соломон Михоэлс», то в сочинении А. Борщаговского он излагается в такой модификации: «Дочь генерала Трофименко сообщила Наталии Михоэлс, что он и Голубов, задержавшись после спектакля, вышли из театра одни и на пустынной улице роковая машина гонялась за ними, пока не настигла» (с. 154) — как видим, однажды напечатанное живет уже своей жизнью.
Теперь о замечании А. И. Ваксберга, что сразу после убийства Михоэлса Трофименко был отозван в Москву не случайно (с. 329). В телефонном разговоре со мной Л. С. прокомментировала это так: «В 1946 году маршал Тимошенко был на три года освобожден от должности командующего Белорусским военным округом и направлен в третьестепенный Южно‑Уральский округ за то, что без предварительного разрешения, самовольно, слетал на своем самолете в Москву — ему не терпелось взглянуть на родившегося внука (или внучку), отцом которого был Василий Сталин. В 1949 году трехлетний срок ссылки истек, и он вернулся в Минск, а отца тогда (т.е. в 1949‑м, а не в 1948‑м) отозвали в Москву на курсы Академии Генштаба (он был этим недоволен, т.к. Академию Генштаба уже закончил), а затем назначили командующим СевероКавказским округом». Замечу, что информация, которой обладал генерал Трофименко об убийстве Михоэлса, не зависела от того, служит он в Минске или в Краснодаре, и он был достаточно осторожен, чтобы не вызывать дополнительных подозрений МГБ.
Приведу теперь воспоминания Л. С., существенно корректирующие, как я полагаю, свидетельство другого автора — Э. Маркиш. Сначала — отрывок из ее воспоминаний о рассказе И. Д. Трофименко про утро 13 января: «Ирина повела детей в музыкальную школу. В середине урока в класс вошел Сергей Трофименко, вызвал жену в коридор.
— Убили Михоэлса! — сказал Сергей. — Езжай домой, дай телеграмму в Москву, жене Соломона Михайловича.
Вслед за тем Сергей вернулся в штаб, а Ирина с детьми — домой. Не успела она закончить текст телеграммы, как позвонил Сергей.
— Телеграмму еще не отправила? — спросил Сергей. — Не отправляй!
Приехав обедать, Сергей объяснил: позвонили из ЦК, телеграмму отправлять «категорически не рекомендовали”» (с. 175‑176). Такая вот «убедительная» картина: генерал Трофименко, по должности своей слухами не пользующийся и, видимо, любезно проинформированный о безвременной кончине Михоэлса одним из организаторов его убийства генералом ГБ Цанавой, бросив все дела, кинулся искать по городу свою жену, чтоб попросить ее дать в Москву телеграмму соболезнования, чему помешало знавшее всё про тайные замыслы тов. Сталина ЦК Белоруссии. Комментарии, что называется, излишни.
Теперь — рассказ И. Д. Трофименко о том же утре, поведанный ею летом 1953 года дочери генерала: «Утром, не очень рано, я поехала в музыкальную школу (там учились мои братья. — Л. С.) на педагогический совет (И. Д. была общественница. — Л. С.). Во время педсовета к телефону кто‑то попросил директора школы (Тала и Нина Михоэлс сказали мне, что директор был давний друг их отца. — Л. С.). Мы все увидели, что директор в ужасном состоянии и с трудом нам пересказал телефонный разговор. Тогда я позвонила на работу Сереже, рассказала, что Михоэлс убит; он был потрясен, сказал, что постарается все выяснить. Но ему нигде ничего не сказали и даже решительно отстранили от вмешательства. Возможно, это было распоряжение Цанавы». Далее Л. С. приводит один эпизод, характеризующий статус двух генералов: «Если мой отец был командующим Белорусским военным округом, то Цанава — начальником всего КГБ, или как это там тогда называлось, этого же округа. Цанава был ставленником Берии. Мне рассказывала И. Д., что в какой‑то праздник, когда Берия прибыл в Минск, даже отца, генерал‑полковника, депутата Верховного Совета и пр. и пр., лейтенант ГБ не впустил через правительственный вход в театр на торжественное заседание, где отец должен был сидеть в президиуме, как у них тогда полагалось…»
Л. С. Трофименко‑Эйдус книгу Н. Вовси‑Михоэлс прочла в 1985 году и только из нее узнала, как произвольно там излагается ее рассказ. Почему она тогда промолчала? В ее письме об этом написано так: «Промолчала я потому, что Тала старше меня на несколько лет, со всякими хворями, заботами о семье (дочь, внучка, трудное материальное положение). Основной кормилец — младшая сестра Нина, с которой я училась некоторое время в одной школе в эвакуации в Ташкенте. Кроме того, в тот год мы не верили, что эта книга может попасть в Россию. Зачем же мне было травмировать ее? — думала я. Но когда оживились отношения с Россией и Тала, так же как и другие члены семьи, стала наезжать в Москву, я забеспокоилась. Вскоре в Израиль приехала группа киношников делать картину про Михоэлса (появилась ли такая картина — не знаю). Через Талу они назначили мне день встречи, очевидно зная текст ее книги, просили привезти фотографии отца и другие материалы. Я растерялась, но сначала все же решилась приехать на эту встречу и как‑нибудь осторожно сказать, что с текстом Талы я не согласна. Позже, обдумав предложение киношников, я пошла по линии менее решительной — позвонила младшей сестре Талы Нине, сказала все, что я думала о работе Талы, и отказалась от встречи с киношниками…»
Подводя итог всему здесь рассказанному, подчеркну, что Л. С. Трофименко‑Эйдус, любившая своего отца и систематически с ним общавшаяся (в 1943 году вместе с И. Д. Трофименко она, например, летала к нему на фронт), с детства знала его вторую жену, жила с ней в Ташкенте, так что их отношения были вполне доверительными. Несомненно, она была внимательна ко всему, что рассказывала ей И. Д. Трофименко, и рассказы эти в памяти хранила. В сюжете, связанном с гибелью Михоэлса, Л. С. (в отличие от и Э. Е. Лазебниковой‑Маркиш, и С. Д. Глуховского), особенно чувствительна была ко всему, что имело отношение к отцу, не пытаясь вписать услышанное в хронику последних дней Михоэлса. В этом особенность и, как ни странно, ценность, правдивость того, что она запомнила. Поэтому, хотя со времени, когда И. Д. Трофименко делилась с близкими рассказами о минской трагедии 1948 года, прошло много лет, свидетельствам Л. С. в данном случае можно отдать безусловное предпочтение.

Алексей Викторов, jewish.ru
Она покорила Париж еврейской народной песней «Хава Нагила». А потом заставила богемных французов на всех вечеринках танцевать казачка и распевать «Катюшу». Во Франции умерла 82-летняя певица Рика Зараи.
«От нас ушёл один из самых красивых голосов Израиля на французском языке», – так сообщили о смерти певицы Рики Зараи в Посольстве Израиля во Франции. В феврале этой сильной, волевой женщине исполнилось бы 83 года. За свою жизнь она смогла пробиться к славе с низов, при огромной любви ко всему французскому не забыть ни еврейские, ни русские корни, продать миллионы своих пластинок, выжить в страшной аварии, написать бестселлер и оправиться от последствий тяжелого инсульта, чтобы успеть еще до конца жизни чуть посиять.
Ривка Гозман родилась в Иерусалиме в 1938 году. Ее родители были убежденными сионистами, приехавшими в Палестину из России (отец певицы был родом из Одессы, а мать из Воложина) возрождать и взращивать еврейское государство. Они же привили девочке любовь к музыке: Ривка с детства играла на фортепиано и в 17 лет была признана в Иерусалимской консерватории лучшим выпускником. Однако по-настоящему раскрылся ее артистический талант через несколько лет во время службы в только что созданной Армии обороны Израиля. Там ей поручили постановку мюзикла «Пять на пять», который неожиданно ждал грандиозный успех. Вскоре его стали показывать не только военным, но и гражданским по всей стране.
Именно в процессе работы над этим мюзиклом Ривка познакомилась с молодым композитором Йохананом Зараи: уроженец Будапешта, чудом переживший Холокост, он только-только тогда переехал в Израиль после обучения в музыкальных академиях Европы. Они стали выступать вместе: Ривка пела, Йоханан ей аккомпанировал. Через несколько лет они поженились, а в 1959 году у них родилась дочь Яэль.
Репертуар Ривки, выступающей тогда уже под именем Рики Зараи, в основном состоял из французских песен: она обожала импозантного Шарля Азнавура и красавицу Далиду, только что открытых звезд парижской эстрады. Что делала Рика – она переводила их песни на иврит и покоряла сердца израильтян своим голосом со сцен кафе, ресторанов и театров. Во время одного из таких концертов к ней подошел восхищенный ее талантом француз, пообещавший устроить ей встречу с продюсером Бруно Кокатриксом. Рика тут же засобиралась в Париж: Кокатрикс не только владел «Олимпией» – крупнейшим на тот момент музыкальным залом в Европе, именно он раскрутил популярность Азнавура и Далиды.
Встреча Рики и Бруно действительно состоялась – вот только именитый продюсер посоветовал молодой певице для начала получше выучить французский. И Рика решила, что лучше всего для этого ей остаться в Париже. Это решение совершенно не понравилось её мужу – предприняв несколько безуспешных попыток переубедить Рику, Йоханан оставил ее в Париже с маленькой дочкой на руках и вернулся в Израиль.
Несколько лет Рика перебивалась с хлеба на воду, пока не решила бить французов не их французской картой, а своей еврейской. И она стала выступать с песнями на иврите – вскоре на нее обратил внимание продюсер Эдди Барклай, который помог ей в 1965 году записать первую пластинку. Среди композиций, исполненных Рикой, была и еврейская народная песня «Хава Нагила»: она быстро стала во Франции хитом – и вознесла Зараи на музыкальный Олимп.
К ней вернулся заинтересованный продюсер Бруно Кокатрикс – и устроил ей множество концертов в «Олимпии», она подписала выгодный контракт со звукозаписывающей компанией Phillips Records, съездила в успешный тур по стране и познакомилась с будущим мужем, музыкантом Жан-Пьером Манье. А вскоре Зараи, как будто поняв секрет своего успеха, выпустила еще один хит, взорвавший всю богемную тусовку Парижа.
Песня называлась «Казачок» – в припеве действительно повторялось всем нам знакомое: «Раз-два-три, казачок!». Вот только сама песня распевалась на манер «Катюши», но вместо привычного «Выходила на берег Катюша…» Рика пела на французском что-то про зиму, которая стучится в наш дом, но которую легко забыть, если попросить бабушку принести ячменный хлеб и водку, обжигающую горло. «Петрушка, балалайку мне принеси и сыграй мне мелодию по-своему. Первая пьеса – это “Бурлаки на Волге”, и когда ты закончишь, мы потанцуем».
В итоге «Казачок» стал первой «золотой» пластинкой Рики – песню исполняли на всех танцевальных вечерах Парижа. Но именно в том 1969 году, на волне огромного успеха, Рика попадает в страшную автомобильную аварию: шесть недель она провела в коме с переломанным черепом и позвоночником, после чего врачи сообщили ей, что больше она никогда не сможет ходить. Однако через три года она пришла в студию на своих двоих, чтобы записать новые песни, которые тоже будут вполне популярны. «Кто знал, что этот кошмар обернется для меня успехом, – комментировала свое возвращение на эстраду Зараи. – Меня спасла натуральная медицина, и я буду говорить об этом везде».
Она сдержала свое слово: в начале 80-х, осознав, что былой славы все же уже не видать, Рика расторгла контракт с Phillips Records и уединилась, чтобы написать книгу «Моя натуральная медицина». Ее издали в 1985 году, и она быстро стала бестселлером. После того как было продано три миллиона экземпляров данной книги, Рика написала следующие: «Мои природные секреты» и «Исцеляющие эмоции».
Пока французы зачитывались фитооткровениями бывшей певицы, официальное медицинское сообщество обвиняло ее в шарлатанстве и судилось с ней. Вполне обоснованно они называли смешными рассуждения Рики в духе «менопауза отступает при виде черной смородины, ожирение сдувается от лука-порея» и опасными ее фразы вроде «мед – отличная пища для лечения рака». Газеты выходили с заголовками «Рика Зараи – угроза обществу», карикатуры в журналах гласили: «Благодаря растениям я наконец могу слушать Рику Зараи часами!»
Еще несколько лет Рика пыталась воевать за свою фабрику по производству травяных сборов, но на волне бесконечных судов та быстро разорилась. В 2000 году певица вернулась в музыкальный бизнес, выпустив вполне успешный альбом со своими каверами. Через шесть лет Рика Зараи издала свои мемуары «Надежда всегда права». В 2008 году она широко отметила 50-летие своей карьеры выпуском очередного кавер-альбома. Почти сразу же после женщину поразил тяжелый инсульт: парализованной оказалась вся левая сторона тела.
Реабилитация заняла у Рики Зараи пять лет. Оправившись, звезда вновь заговорила о пользе здорового питания: «Пять фруктов и овощей в день – вот и весь секрет». Но после болезни она выпустила только одну, последнюю пластинку под названием «Антология, 1960–1982» – это сборник ее лучших песен, позволивших ей за всю жизнь продать почти 30 миллионов пластинок.

Празднование Нового года, особенно с такими его атрибутами как ёлка и Дед Мороз, стало яблоком раздора для евреев в странах Европы, в США, а особенно в Израиле. Но и в России сегодня не слишком религиозные члены общины зачастую опасаются признаваться своим строго соблюдающим нормы иудаизма собратьям в том, что отмечают 1 января. В чем причина разногласий, когда, где и при каких обстоятельствах еврею можно принимать подарки, поздравлять окружающих с Новым годом, наряжать елку и есть оливье – в интервью РИА Новости рассказал президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Беседовала Ольга Липич.
– Уважаемый раввин, как представители разных течений иудаизма в разных точках земного шара относятся к празднованию светского Нового года, насколько расходятся во мнениях и почему?
– Нужно сразу сказать, что Новый год на Западе и Новый год в пост-советских странах – совершенно разные вещи, поэтому и “еврейский” взгляд на этот праздник в разных регионах разный. На Западе Новый год имеет религиозный характер, поэтому евреи, как правило, его никак не отмечают. В пост-советских странах Новый год приобрел светский характер, и поэтому есть много евреев, которые к нему готовятся и его празднуют, для них это важная традиция. Так что здесь большое значение имеет страна, а не течение иудаизма.
– А что думают о 1 января в самом Израиле?
– В Израиле проблема в следующем. Русскоязычные евреи хотят праздновать Новый год, потому что привыкли к этому. А израильтяне считают, что это нееврейский праздник и смотрят на это не очень положительно. И свой взгляд они выражают с разной степенью воинственности.
– Какова ситуация в США?
– В США ситуация иная, там евреи более ассимилированы. Но в США в принципе нет такой традиции, когда в честь Нового года собираются за столом – как у евреев, так и неевреев.
Что касается России и пост-советских стран, то празднование Нового года с елкой и оливье – это очень советский обычай. Поэтому и отношение к празднованию евреями Нового года в России и других пост-советских стран иное, как и смысл самого праздника.
– Допустимо ли еврею устанавливать дома елку, наряжать ее, ставить под нее фигурки Деда Мороза и Снегурочки, дарить “от них” детям подарки?
– Опять же, зависит от того, какой смысл вкладывать во все эти ритуалы. Например, на Западе Дед Мороз – это не Дед Мороз, а Сант Николас – Святой Николас, и елка тоже не Новогодняя елка, а Christmas Tree или Weihnachtsbaum на немецком, что в переводе -Рождественская елка. То есть, даже названия имеют отсылку к христианству.
Для России и других пост-советских стран – это Новогодняя елка, которая имеет отсылку только к самой традиции празднования и не имеет религиозного характера. Елка была языческим символом, потом стала христианским символом, а потом стала символом советским. То есть, сегодняшняя елка – это не вчерашняя елка, скажем так.
При этом, конечно, Галаха (традиционное иудейское право) не смотрит на празднование Нового года одобрительно. И существуют мнения алахических авторитетов, согласно которым празднование Нового года и Новогодние елки, даже несмотря на их светский характер, запрещены.
– Можно ли еврею ходить в гости к друзьям-христианам или неверующим, садиться за новогодний стол, есть оливье?
– Если мы говорим о странах бывшего СССР, где это нерелигиозный праздник – запрета нет. Пойти и поздравить своих друзей и близких, посидеть за праздничным столом и посмотреть выступление президента – так принято, почему нет?
– Не боятся ли празднующие члены общины осуждения со стороны более религиозных собратьев?
– Если европейский еврей будет праздновать Новый год или Рождество, то вряд ли встретит понимание общины.
– Празднуете ли Новый год Вы лично, ваши родные, друзья? Как меняется облик Вашего дома к 1 января?
– Лично я не праздную и никак не знаменую наступление этого дня. Но действительно, многие мои друзья в России отмечают Новый год тем или иным образом. И если в России мои друзья или даже посторонние люди поздравляют меня “с наступающим” (как это принято уже с середины декабря), то я, конечно, тоже их поздравляю.
– Какие самые курьезные случаи на тему празднования Нового года могли бы рассказать?
– Однажды, когда наши дети были еще маленькими, мы летели из России в Швейцарию на новогодние каникулы. И в самолете стюардесса раздавала детям новогодние подарки, разные елочки, костюмы Деда Мороза. Естественно, наши дети с радостью приняли подарки, начали играть и примерять костюмы в самолете. Я наблюдал за этим с улыбкой и представлял, в какой шок пришли бы швейцарские знакомые-евреи, увидев, как дети раввина играют с костюмом Деда Мороза. Это именно то, о чем я сказал: Новый год в пост-советских странах и новый год на Западе – это два разных Новых года.

В 1940 г. в Вильнюсском университете (ВУ) была открыта кафедра идиша и идишистской литературы идиш (Иудаики), ее руководителем стал известный идишист, филолог, профессор Ноах Прилуцкий. По понятным причинам она просуществовала недолго. В 1990 г., через 50 лет, кафедра Иудаики была восстановлена, заведующим был известный философ, профессор Меирас Шубас.
Ноах Прилуцкий родился в 1882 в Бердичеве в семье известного еврейского журналиста, публициста Цви (Гирша) Прилуцкого (1862 – 1942, Варшавского гетто).

Ноах Прилуцкий
Первые публикации Прилуцкого относятся к началу 1890-х годов, когда ему было всего 10 лет. Известна его статья на иврите, посвящённая еврейским колониям в Аргентине.
В начале 1900-х гг., окончив гимназию в Варшаве, поступил там же на юридический факультет университета. В 1903 г. подвергся административному аресту за организацию публичного протеста во время антисемитского спектакля «Золотой телец» в Варшавском драматическом театре, а в 1904 г. провел два месяца в тюрьме за участие в оппозиционном митинге студентов.
В 1904–1905 гг. Ноах Прилуцкий был членом сионистского студенческого кружка «Кадима», в составе комитета Ционей Цион выступал против Плана Уганды (план по созданию автономного еврейского поселения в Британской Восточной Африке – ныне — часть территории Кении, предложенный британским правительством в 1903 г. Сионистской организации).
В 1905 г. Прилуцкого исключили из университета за то, что на студенческом собрании он выдвинул требование открыть государственные еврейские школы. В 1907 г. Прилуцкий поступил на юридический факультет Петербургского университета, по окончании которого занялся адвокатурой в Варшаве.
Прилуцкий ратовал за объявление языка идиш национальным языком (в противовес признанию его одним из языков еврейского народа). В 1908 г. выпустил в свет сборник эротических стихов «Фарн мизбеях» («Пред алтарем»). Как редактор нескольких альманахов содействовал сплочению еврейской литературной молодежи в Польше.
С основания в 1910 г. газеты «Момент» и вплоть до ее закрытия (сентябрь 1939 г.) Прилуцкий постоянно публиковал в ней статьи по общественно-политическим вопросам, культуре, искусству. Одновременно занимался научной деятельностью: в 1911–17 гг. издал несколько сборников собранных им произведений еврейского фольклора, в 1917–38 гг. — ряд книг о еврейском театре, литературе и истории культуры. Особенно значительны труды Прилуцкого о диалектах и фонетике идиш, во многом определившие современную орфоэпию этого языка.
Во время советско-польской войны (1920) Прилуцкий многое сделал для спасения еврейских общин от высылки, наветов, обвинений в шпионаже и смертных приговоров. В 1922 г. Прилуцкий был избран в Польский сейм, противостоял депутатам от ортодоксального еврейства, от сионистов и ассимиляторов в борьбе за укрепление светского еврейского образования и учреждение новых школ на идиш и библиотек.
Усиление диктатуры Ю. Пилсудского (1926) побудили Прилуцкого постепенно отойти от активной политической деятельности и интенсивно заняться наукой, изданием лингвистических журналов «Идише филологие» (1924–26, совместно с М. Вайнрайхом и З. Рейзеном), «Архив фар идише шпрахвисншафт, литературфоршунг ун этнографие» (1926–33), «Идиш фар але» (издание ИВО; март 1938 — июль 1939 гг.), участием в формировании и работе отдела филологии и литературы еврейского научно-исследовательского Института ИВО.
При оккупации Варшавы нацистами Прилуцкий бежал в Вильнюс, заведовал кафедрой языка и литературы идиш, стал директором ИВО, вел широкую лекционную работу. После оккупации города нацистами был арестован (1 августа 1941 г.), привлечен гестапо к составлению списка еврейских инкунабул (печатные издания XV в.) в библиотеке М. Страшуна, а 12 августа умер под пытками, не выдав место хранения редких еврейских книг.
Меирас Шубас

Философ, историк Меирас Шубас родился в Каунасе в 1924 г., учился в Каунасской еврейской гимназии. В 1942 – 1945 г. был в составе 16-ой литовской дивизии, воевал с нацизмом. В 1961 – 1970 г.г. преподавал в Каунасском политическом институте, до 1990 г. работал в Институте философии и социологии при Академии наук Литвы. С 1990 г. профессор Вильнюсского университета, 1990 – 93 г. был заведующим кафедрой иудаики ВУ, после реорганизации кафедры (1993 – 99) руководил Центром иудаики ВУ. В 1999 г. Центр был вновь реорганизован в Центр изучения культур национальных общин.
М. Шубас был исследователем еврейской истории и философии. Опубликовал статьи о работах философов неотомистов, Движении сионистов в Литве, крупнейшем галахическом авторитете, основоположнике раввинистической литературы и еврейской рационалистической философии, языковеде и поэте Саадии Гаоне (882–942), Виленском Гаоне. Наиболее важный труд М. Шубаса – «Звезда Талмудической науки: монография о Виленском Гаоне» (1997).

Совет раввинов Европы (СРЕ) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, если это советуют врачи в стране пребывания.
«Мы призываем всех верующих строго следовать советам своих врачей, и если врачи рекомендуют прививку, то нужно без колебаний получить вакцину, доступную в их стране», – говориться в обращении совета.
Совет выразил надежду на то, что вакцина от Covid-19 остановит распространение коронавируса, «принесшего множество жертв, изменившего нашу жизнь, жизнь наших общин и синагог». «Мы горячо молимся и желаем, чтобы Всевышний избавил нас от всех болезней и недугов, и мы бы беспрепятственно продолжили службы в наших синагогах», – подчеркивалось в обращении.

Во исполнение Договора о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Мемориальным Музеем Холокоста, США, от 24 мая 2016 цифровые копии из фондов государственных архивов Украины станут доступными в Интернете.
Украинский государственный архив поддержал предложение Мемориального Музея Холокоста США обнародовать электронный ресурс, который содержит более 10 000 000 страниц архивных документов в цифровом формате, связанных с историей Холокоста, а также еврейских общин в Украине до, во время и после Второй мировой войны, на официальном Инетрнет-сайте Мемориального Музея.
Это результат совместной работы украинских архивистов и сотрудников Мемориального музея за более чем два десятилетия, направленной на сохранение и обнародование памяти о трагических страницах истории еврейского народа.
Такой шаг с обеих сторон особенно важен сегодня, когда из-за распространения пандемии, вызванной COVID-19, равный доступ к архивным документам пользователей обеспечивается архивными учреждениями мира в режиме онлайн.
Согласно договоренностям, достигнутым с Мемориальным Музеем, ссылки на этот ресурс будут доступны и на Инетрнет-странице Государственного архива Украины.

В Тель-Авиве вышел из печати девятый номер журнала «Идишланд», единственного на сегодняшний день литературного журнала на идише. Он посвящен детской литературе, – сообщает газета “Биробиджанер Штерн”.
В предисловии «От редакции» так сказано о работе над этим тематическим номером: «Когда мы, члены редколлегии, решили повеселить читателя детским номером, мы позволили каждому выбрать для этого номера именно то, что порадует его самого. И, по правде говоря, в отличие от «номеров для взрослых», оказалось, что самая большая проблема — выбрать ограниченное число произведений из действительно моря прекрасных произведений… Когда-то еврейские мальчишки в хедере шутили: «Подумаешь, премудрость — быть пекарем! Берешь тейгл (кусок теста) и делаешь бейгл (бублик)…» И, может быть, именно поэтому номер начинается с классической статьи С. Ан-ского о детских народных песнях».
Кроме упомянутой статьи С. Ан-ского, которая в оригинале была написана по-русски (за исключением цитируемых в ней фольклорных текстов), номер включает в себя еще две напрямую связанные с тематикой номера научные статьи: «Настоящее путешествие. О значении ходьбы в Шолом-Алейхемовских сказках для детей» доктора Яэль Леви и «Танах на идише для детей — без Бога и с Богом» доктора Анат Адерет.
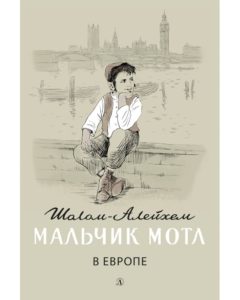
В номере есть как написанные в оригинале на идише прозаические произведения (Ицика Майерса, Николая Олнянски и Велвла Чернина), так и переведенные с русского языка (Даниила Хармса и Вадима Левина). И те и другие предназначены для читателей, юных годами или хотя бы своим настроем. В биробиджанском контексте можно упомянуть о том, что «идишистский гэлтахт» на карликовой планете Церера, описанный в фантастическом рассказе Велвла Чернина «Глава из путешествий Вениамина Пятого», унаследовал радужный флаг Еврейской автономной области. Кстати, русский перевод этого рассказа уже готов, и он будет в дальнейшем опубликован в «Биробиджанер штерн».

Поэзия представлена стихотворениями Йоэля Матвеева, Бориса Карлова и Мойше Лемстера. К этому следует добавить и стихи многолетнего автора «Биробиджанерштерн» Зиси Вейцмана. Его стихи публикуются в девятом номере журнала «Идишланд» вместе с горькой вестью о его кончине.
Нынешней культурной активности на идише для детей посвящены опубликованные в «детском номере» заметки Леокадии Френкель (о воскресной школе «Наши традиции» при Санкт-Петербургском еврейском общинном центре) и Елены Сарашевской (о биробиджанском детском ансамбле «Иланот»). Обе заметки иллюстрированы фотографиями.

Оксфордский университет стал последним на данный момент высшим учебным заведением Великобритании, принявшим определение антисемитизма Международного альянса в память о Холокосте (IHRA), сообщила «Jewish Chronicle».
Это означает, что подавляющее большинство университетов из группы «Рассел» (элитное объединение лучших университетов Великобритании, куда входят 24 университета) теперь приняли это определение после давления со стороны министра образования Гэвина Уильямсона и отдельной кампании, возглавляемой лордом Джоном Манном и Джонатаном Гольдштейном из Совета еврейского лидерства.
Сэмюэл Бенджамин, президент Союза еврейских студентов Оксфордского университета, заявил: «Еврейское сообщество Оксфордского университета удовлетворено тем, что университет официально принял определение антисемитизма Международного альянса в память о Холокосте (IHRA). Тем самым он присоединяется к растущему числу университетов по всей стране, которые принимают определение, имеющее решающее значение в борьбе с предрассудками и дискриминацией в отношении евреев. Это знаменует собой веху в усилиях университета по борьбе с антисемитизмом и служит важным шагом в защите евреев на территории кампуса. Мы надеемся на сотрудничество с университетом, чтобы обеспечить хорошие условия для его студентов-евреев».
Союз еврейских студентов добавил: «Мы рады, что Оксфордский университет присоединился к растущему списку британских университетов, принимающих определение антисемитизма IHRA. Мы хотим поблагодарить студентов-евреев за их упорный труд, решимость и за оказание давления на университет в этом вопросе. И Оксфордский, и Кембриджский университет сделали этот шаг, чтобы поддержать своих студентов-евреев. Это должно служить примером для всех других вузов».
Принятие определения IHRA произошло после того, как недавний отчет Фонда общинной безопасности показал увеличение числа сообщений об антисемитизме среди студентов, а сам Фонд призвал университеты принять международное определение антисемитизма. Министр образования ранее предупреждал, что университеты могут столкнуться с сокращением финансирования, если они откажутся принять рабочее определение антисемитизма до конца года.
Ранее в этом месяце Премьер-лига и 18 клубов высшего футбольного дивизиона подтвердили, что они приняли определение IHRA. Критика этого определения отдельными учеными – обычно в связи с утверждениями о нарушении свободы слова – оказалась в значительной степени неэффективной.

Израильский скрипач Иври Гитлис умер в четверг на 99-м году жизни в Париже. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщило агентство France-Presse (AFP).
По словам одного из четырех детей Гитлиса, смерть была констатирована утром 24 декабря. Причины произошедшего агентство не приводит.
Виолончелист Готье Капюсон выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача. «[Испытал] безмерную печаль, узнав о смерти легенды скрипки Иври Гитлиса, скончавшегося этим утром», – написал музыкант на своей странице в Twitter.
Иври Гитлис родился в 1922 году в израильском городе Хайфа, играть на скрипке он начал в шесть лет. Учился в Париже, в том числе у легендарного скрипача Эжена Изаи. Был первой скрипкой Венского филармонического оркестра. Стал первым израильским музыкантом, посетившим Советский Союз.
Выступал с самыми престижными оркестрами, в том числе в филармониях Нью-Йорка, Берлина, Вены, Филадельфии и Израиля. Дружеские связи и совместные проекты объединяли Гитлиса с музыкантами разных стран и направлений. Бруно Мадерна посвятил ему «Пьесу для Иври». В 1988 году он стал послом доброй воли ЮНЕСКО. Несмотря на возраст, скрипач продолжал давать мастер-классы, вести педагогическую работу со студентами и юными музыкантами.

По словам старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, администрация президента США Дональда Трампа была «самой произраильской администрацией, которую я мог себе представить». Кушнер вместе со специальным представителем США по международным переговорам Ави Берковицем 24 декабря дали эксклюзивное интервью «Israel Hayom», размышляя о последних четырех бурных годах, поскольку количество соглашений о нормализации отношений увеличивается, а срок полномочий Трампа, очевидно, приближается к концу.
Интервью было проведено, когда Кушнер находился в Марокко в составе совместной американо-изральской делегации, посетившей страну в рамках последнего соглашения о нормализации отношений, заключенного между Израилем и арабской мусульманской страной при посредничестве США. Берковиц вспоминал, как он был взволнован предстоящими переменами на борту рейса Трампа из Саудовской Аравии в Израиль в 2017 году.
«Я помню, как делал фотографии взлетно-посадочной полосы (аэропорта)», – рассказал он. «Это уже тогда показало нам, что положение вещей не должно оставаться таким, каким оно было при существующем статус-кво – что оно может измениться». «Возможность, предоставленная мне позже, поработать над Соглашением Авраама, доказала, что это возможно», – заявил он.
Недавнее соглашение о нормализации отношений с Марокко появилось вслед за другими соглашениями, заключенными между Израилем и странами мусульманского мира при посредничестве США. Преемственность этой политики неопределенна, поскольку приближается день инаугурации Джо Байдена, с которым придет его новая внешнеполитическая команда.
Касаясь микрокосма, который представляют собой сделки по нормализации, Кушнер заметил, что администрация «наиболее благосклонна к арабо-мусульманскому миру». «Мы сформировали доверие к нам, твердо поддерживая наших партнеров», – заявил он. «Трамп пользовался доверием соседних стран, что создавало здесь пространство для исторических событий».

15 декабря на 72 году жизни трагически погиб Григорий Гордон – бывший солист Государственной филармонии, воспитанник хора Г. Перельштейна «Ажуолюкас». Еврейская община Литвы выражаемт самые искренние соболезнования сыну Григория – Симону и всем родным и близким.

В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения известной итальянской художницы и скульптора литвакского происхождения Антониетты Рафаэль Мафаи.
Родилась Антониетта Рафаэль 29 июля 1895 в Литве в городе Ковно (ныне Каунас) в семье раввина Симона Рафаэля. После смерти отца в 1905 году она вместе с матерью переехала из родной Литвы в Лондон. Здесь девушка занималась музыкой и часто посещала Британский музей, где познакомилась со скульптором Осипом Цадкиным.
После окончания Королевской Академии по классу игры на фортепиано Антониетта открыла Школу теории музыки в Ист-Энде и работала концертмейстером в театре.

Портрет матери. Ханука.
После смерти матери Антониетты в 1919 году, она переехала в Париж. В столице искусств девушка прожила пять лет.
В 1924 году она переезжает в Рим. В 1925 году девушка посещала курсы в римской Академии изящных искусств. В Академии Антониетта Рафаэль и познакомилась с Марио Мафаи.

Йом Кипур в синагоге.
Она с увлечением принимает участие в тональных экспериментах, которые проводит Мафаи вместе с молодым итальянским импрессионистом Сципионом, настоящее имя которого Джино Боничи. Они организовали группу, известную как «Римская школа». Группа внесла в итальянскую живопись романтический экспрессионизм, как оппозицию к помпезности официального искусства, которое выступало в те годы пропагандистом фашистского правительства Муссолини.
Вспыхнувший роман с Марио Мафаи завершился в этом же 1925 году свадьбой, в течение пяти лет в семье появились три дочери – Мириам (1926) — журналистка и политическая деятельница, Симона (1928) — писательница и член итальянского Сената и Джулия (1930) — сценограф и дизайнер костюмов.

Антониетта Рафаэль Мафаи с дочерьми
В 1929 году художница дебютировала на выставке в районе Лацио.
В этом же году она экспонирует восемнадцать картин в числе восьми художников на выставке в Доме художников. Критики Паволини и Франчини отметили «чисто русский аромат» ее живописи, стремление к «архаичному простонародному вкусу», а также международный и новаторский характер картин. Несмотря на похвалу, Антониетта Рафаэль Мафаи на протяжении десятилетий очень редко участвовала в выставках.

В 1930 году Антониетта совершила путешествие по Европе, она побывала в Париже, Генуе и Лондоне. В английской столице Антониетта познакомилась с Якобом Эпштейном (Jacob Epstein), который убедил ее сосредоточиться не на живописи, а на скульптуре.
В 1932 году Антониетта Мафаи на год приезжает в Париж, где изучает скульптуру в музеях и на выставках. В 1933 году Антониетта возвращается в Италию и поселяется с семьей в Риме.
 Около года она трудится в мастерской своего друга – скульптора Этторе Колла. Пребывание в Париже не прошло даром, в работах Антониетты чувствуются отголоски красоты и пластики скульптур французов Майоля и Бурделя.
Около года она трудится в мастерской своего друга – скульптора Этторе Колла. Пребывание в Париже не прошло даром, в работах Антониетты чувствуются отголоски красоты и пластики скульптур французов Майоля и Бурделя.
Ее первый публичный показ в качестве скульптора состоялся в 1936 году на шестой выставке Союза изобразительных искусств в Лацио.
Из-за своего еврейского происхождения Антониетта в 1939 году была вынуждена скрываться от фашистских гонений. Вместе с мужем и дочерьми она уезжает в Геную, где ей помогают укрыться Эмилио Джеси и Альберто делла Раджионе. До конца Второй мировой войны Антониетта практически не занималась творчеством.

К 1947 году она возобновляет работу, но исключительно в скульптурном жанре и начинает участвовать в больших выставках.
В 1948 году Рафаэль Мафаи участвует в Венецианском Биеннале и получает хорошие отзывы критики и прессы. В Венеции она будет представлять свои работы до 1954 года.
В 1952 году скульптор участвует в VI Римском Квадринале и получает первую крупную награду. В этом же году проходит ее персональная выставка в Галерее Зодиак в Риме.
В 1956 году начинаются регулярные поездки, сначала в Китай, затем на коллективные выставки по всей Европе, в Азии и Америке. В рамках VIII Квадринале в Риме в 1959-60 годах Рафаэль Мафаи участвует в выставке «Римская школа, 1930 – 1945 годы».
Во второй половине шестидесятых годов Антониетта интенсивно занимается скульптурой, в том числе и бронзовой, отливка ее работ становится более сложной.
Умерла Рафаэль – Мафаи в 1975 году в возрасте 85 лет.