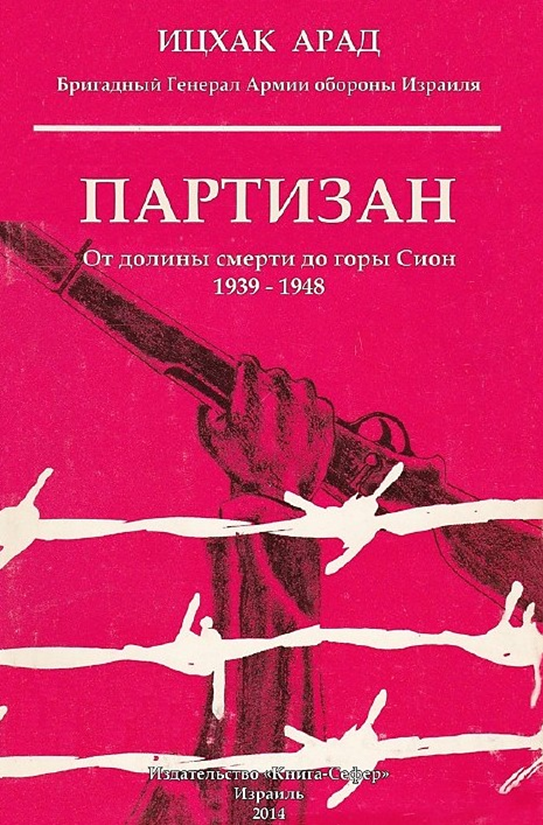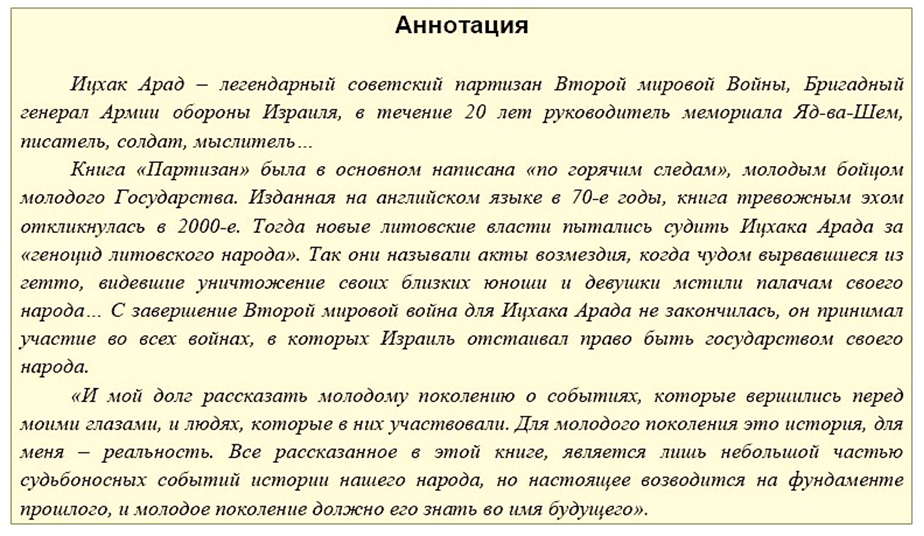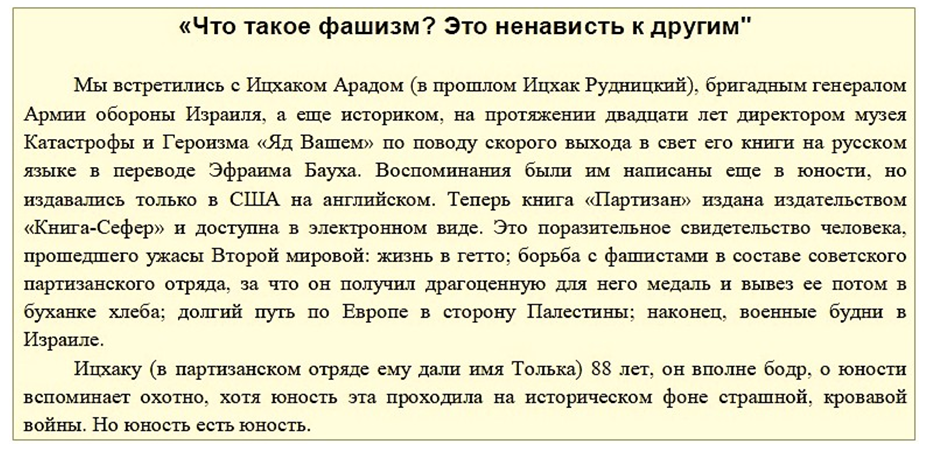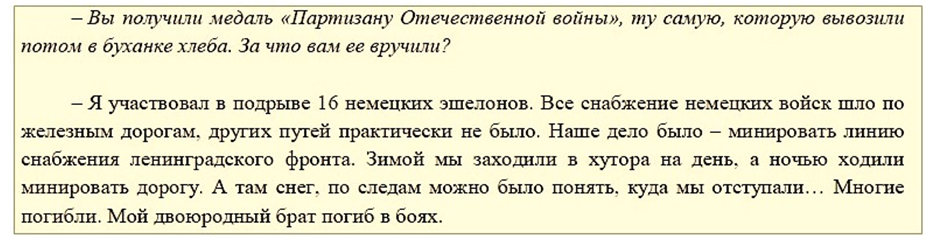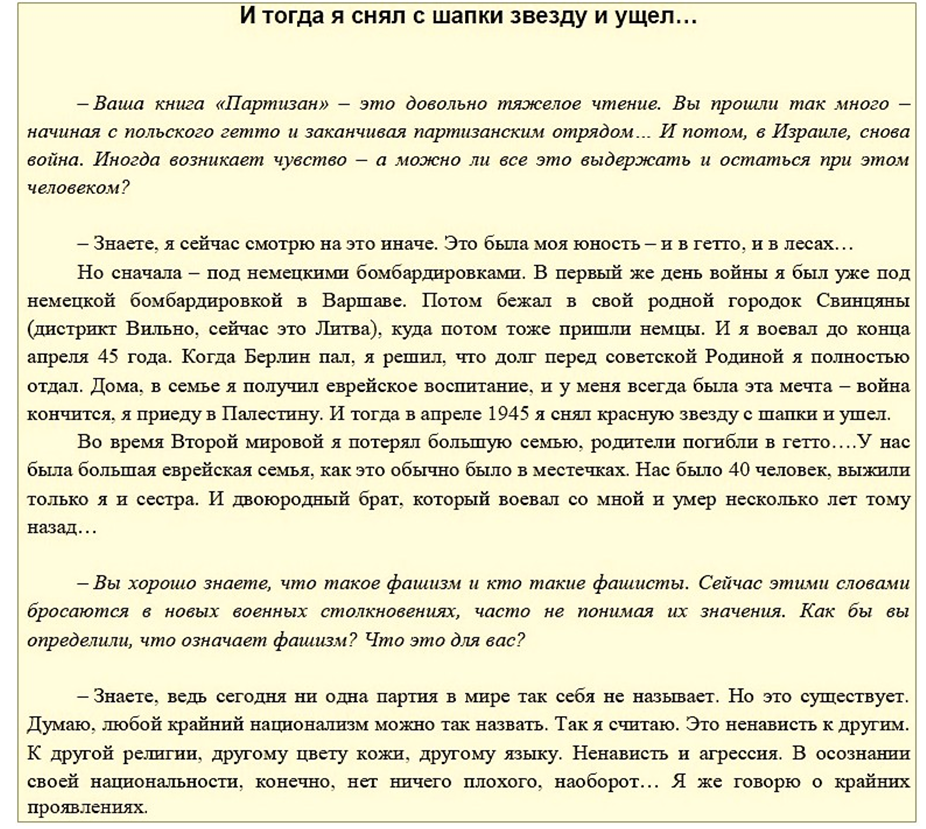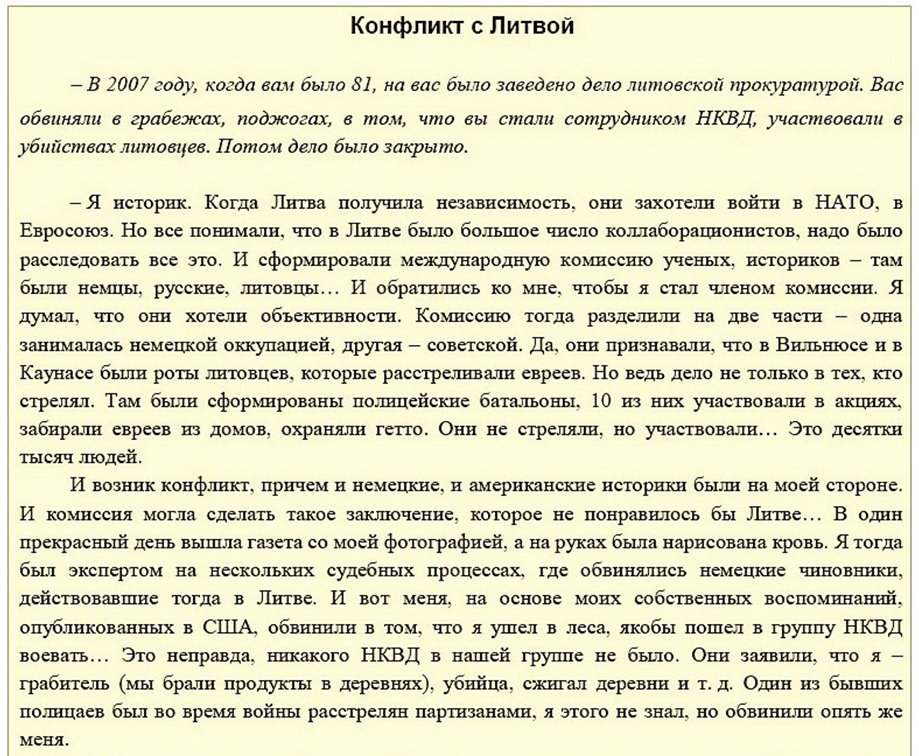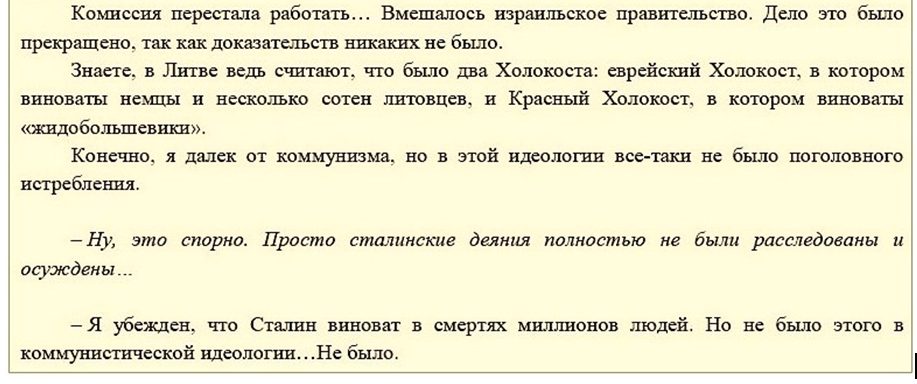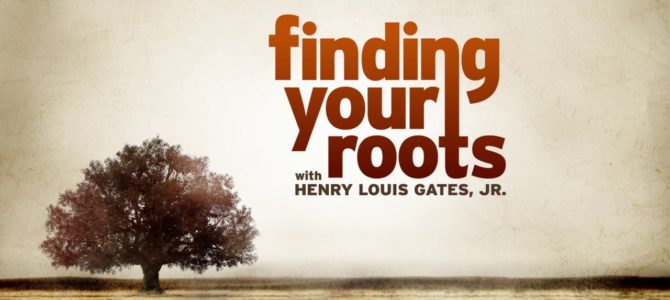Андрей Мовчан – автор экономических и социо-политических статей, ведет персональный блог на Facebook. Является контрибьютером медиа-каналов Movchans о финансовых и инвестиционных рынках на Youtube и в Telegram. Является автором колонок для журнала Forbes, издания Republic.ru и газеты «Ведомости», РБК и Коммерсант. Ведёт блог на сайте «Сноб.ру», выступает на телеканале «Дождь» и радиостанции Эхо Москвы.
Меня когда-то в советской школе учили брать на себя ответственность, если этого не делает никто другой, — не важно, мой вопрос или не мой. Эта неприятная привычка сохранилась у меня на всю жизнь.
Вот и теперь — вроде бы я не знаток истории Палестины, не политик, не израильтянин — но не могу не попытаться на основе своих скудных знаний ответить на многочисленные комментарии к нынешнему конфликту самых разных авторов, которых (от юных девушек, выступающих “за все хорошее, против всего плохого и, конечно, против сионизма”, до пожилых фанатичных борцов с жидами) объединяет одно — отсутствие элементарных знаний о ситуации, вынуждающее их придумывать свои, сказочные версии и их же комментировать.
Получится что-то типа “толкового словаря фактов”. Я буду публиковать по 1-2 факта с набором традиционных заблуждений и пояснениями в течение какого-то времени. Буду благодарен, если кто-то соберет эти посты потом в один блог.
Буду рад, если этот “словарь” поможет кому-то разобраться в процессах. Сразу оговорюсь, он сделан не для того, чтобы что-то доказать или опровергнуть, подтвердить или оспорить. Он сделан для того, чтобы исключить из процесса размышления ложные и ошибочные предпосылки. Сделав это, беспристрастный читатель сможет перейти к выводам; какими они будут — зависит, конечно, от его пристрастий и этической парадигмы, но по крайней мере не от заблуждений.
Сегодня — ответ на первый вопрос. Кстати, напишите в комментариях, насколько это интересно и стоит ли продолжать.
“Кто жил в Палестине раньше и насколько это важно”.
Классические заблуждения:
“Это родина палестинцев, они здесь всегда жили”; “Евреи приехали в XX веке, спасаясь от Холокоста, и захватили территорию”.
Палестина является исторической родиной евреев, однако в течение V–XIII веков нашей эры существенная часть евреев или покинула ее, или, приняв ислам, присоединилась к местной общности мусульман, потеряв самоназвание. Евреи жили в Палестине всегда, но лишь в XX веке они массово возвращаются в Палестину; к этому времени в Палестине в основном проживают потомки исламизированных евреев и арабы-мусульмане, не идентифицирующие себя как “палестинцы” и ведущие свою родословную от предков, в течение последних двух веков мигрировавших с территорий Сирии, Ирака, Иордании и Египта. Таким образом, Палестина в XX веке собирает в себе мигрантов арабов и евреев (и не только) — прародиной евреев является именно Палестина, прародина палестинских арабов намного шире, и в основном — не Палестина, и это признается самими арабскими и палестинскими авторитетами и историками (безоговорочно — до 30-х годов XX века, неангажированной частью, в том числе таким авторитетом, как Рашид Халиди, — и в дальнейшем).
На территории Палестины доминировали с достаточно незапамятных времен семитские племена. И арабы, и евреи к ним относятся.
Общность “арабы” (по-итальянски arrabiato — “сердитый”, надеюсь, арабы не обижаются) сформировалась около VIII века до нашей эры и представляла из себя совокупность скотоводческих кочевых племен примерно до V века нашей эры. Арабы в оседлой с середины 2-го тысячелетия до нашей эры Палестине не жили до примерно VI–VII веков нашей эры.
Общность “евреи” сформировалась несколько раньше, где-то в XIII веке до нашей эры (плюс-минус, есть аргументы и в пользу XI века), была оседлой с X–XI века и доминирующей на территории Палестины до I века нашей эры; за это время евреи пережили четыре периода включения в империи, пару масштабных переселений, три успешных войны за независимость, эволюцию от племенной структуры к монархии (очень похожую на эволюцию скандинавов в VI–XII веках новой эры), создали первую значимую монотеистическую религию и беспрецедентные памятники литературы (среди которых Тора — лишь самый известный), образовали масштабную диаспору внутри империй того времени.
С конца I века нашей эры, в результате гражданской войны (именно гражданская война в Израиле, которая шла последние два века и достигла кульминации в 60-е годы I века нашей эры, стала итоговым триггером) и по решению римской администрации, существенная часть населения территории была перемещена в другие места — от Европы до Малой Азии. На территории Палестины оставалась еврейская община, не имевшая самоуправления, а сама территория заселялась после этого выходцами из Малой Азии.
В течение пяти веков местность оставалась без какого бы то ни было государственного образования — большую часть времени это была просто римская провинция, населенная примерно на 2/3 европейцами и выходцами из Малой Азии и на 1/3 — иудеями; после принятия Римом христианства интерес к Палестине повысился — в V веке Палестина была одной из самых населенных провинций империи, но состав населения был примерно таким же, христиане составляли 2/3.
С VII века нашей эры интерес к Палестине проявили не только христиане, но и мусульмане — новое религиозное течение, только что родившееся в Аравии на базе комбинации двух монотеистических культов, распространенных среди аравийских кочевников-арабов, с привязкой к основам иудаизма и потому тоже претендующее на Палестину как на место своего истока. В середине VII века объединенное государство кочевников-мусульман, быстро становящихся оседлыми, включает в себя территорию Палестины (в недалеком будущем оно включит в себя всю Северную Африку и даже половину Иберийского полуострова).
Европейцы-христиане будут пытаться отвоевать Святую землю и успешно создавать на ней христианские европейские анклавы; попытки закончатся в XIII веке, и территория Палестины останется полностью под контролем мусульманских государственных образований, которые будут менять название, столицы и детали религии, но оставаться исламскими.
В дальнейшем на территории Палестины жили евреи, к которым исламские правители относились достаточно лояльно (как известно, пророк Мухаммед говорил, что евреи не являются неверными и отношение к ним мусульман должно быть крайне уважительным, существует хадис, говорящий, что пророк, будучи обижаем соседом-евреем — человеком хамоватым и недалеким, — отказывался отвечать на обиду гневом и ответным оскорблением), в остальном территория была заселена частично кочевниками, частично — временными переселенцами из глубин исламских империй, частично — торговцами (в силу географического положения).
Однако лояльность (особенно в последние 300 лет, когда территорией владела Оттоманская империя) не означала равенства. Немусульмане облагались более высокими налогами, существовал очевидный “стеклянный потолок”, периодически возникали конфликты на религиозной почве. Поэтому многие христиане и евреи на территориях, подконтрольных исламским империям, переходили в ислам; на территории Палестины это происходило настолько активно, что, как показывает ДНК-анализ (привожу цитату известного исследователя Небеля), “part, perhaps the majority of Muslim Palestinians descend from local inhabitants, mainly Christians and Jews, who had converted after the Islamic conquest in the seventh century AD”
В XV–XVI веках происходила также массовая миграция кочевников-бедуинов и египетских крестьян (феллахов) из Египта через Синайский полуостров на территорию Негева. Турки принимали и тех и других; феллахи в основном селились на территории нынешнего сектора Газа (в основном население Газы — их потомки), бедуины — дальше в пустыне и на север. Основное население, например, Хеврона — это потомки египетских бедуинов, в значительной степени смешанных с рабами-суданцами, которых бедуины приводили с собой.
XVIII–XIX века ознаменовались масштабной иммиграцией мусульман на территорию Палестины. В первой половине XIX века многолетний голод в Египте вызвал миграцию египетских мусульман — только за эти 10 лет только из Египта прибыло около 15–20% от существующего на тот момент населения Палестины. Через 20–30 лет состоялась существенная миграция из Алжира, прибывали курды и даже несколько больших кланов из Иордании. Одновременно турки заселяли территорию Палестины, расставляя там свои гарнизоны. Потеря Турцией Балкан в 70-е годы XIX века привела к существенной миграции в Палестину мусульман Боснии.
К началу XX века Палестина — окраина Оттоманской империи. В области живут примерно 10% иудеев и 90% —всех остальных, включая существенную часть, считающую себя арабами и ведущую свою родословную из Сирии, Ирака, Аравии, Египта, Турции, Боснии и пр. (тогда все это, кроме Египта, — не страны, а провинции Большой Турции). В 1919 году “Конгрессу мусульманско-христианских ассоциаций Палестины” было предложено прислать отдельного представителя на Парижскую мирную конференцию. Конгресс ответил: “Мы считаем себя частью сирийской арабской общности” и отказался.
Вместе с тем в конце XIX века в ответ в основном на усиление антисемитизма в Российской империи, выразившееся в погромах и дальнейшем поражении евреев в правах, усиливается иммиграция евреев в Палестину, и рождается сионистское движение — за возрождение государства евреев на исторической его территории. Доля еврейского населения в Палестине увеличивается с 10% до 30% — во многом уже в 30-е годы, когда распространение фашизма в Европе вынуждает евреев бежать в Палестину (а местные власти, теперь британцы, всячески этому препятствуют).
Нельзя сказать, что палестинская иммиграция останавливается — с 1919 по 1948 год на территорию Палестины въехало до 200 тысяч арабов-мусульман. За период с 1922 по 1948 год еврейское и мусульманское население Палестины выросло на примерно одну и ту же величину — 400 тысяч человек. Но к моменту образования государства Израиль на территориях, которые передавались Израилю по решению ООН, проживали в подавляющем большинстве евреи.
Источник: Facebook